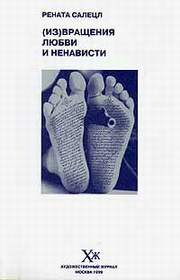
ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВНАЯ НЕНАВИСТЬ И НЕНАВИСТНАЯ ЛЮБОВЬ
Владимир Богомяков (12/04/02)
В конце марта на форуме «Топоса» вспыхнула
странная дискуссия о городе Тюмени и ее обитателях. Страсти чрезвычайно накалились
и, должно быть, со стороны странно было наблюдать эти разряды ненависти и клятвы
в любви. Ну, Тюмень и Тюмень: кому-то нравится здесь жить, кому-то – нет. Понятно,
что в Питере и красивее, и «культурнее», и Исаакий опять же, и родился стремительно
теряющий остатки популярности Путин. Но зачем же, однако, так ненавидеть Тюмень
и ее тюменцев? А зачем вообще вокруг нас столько ненависти? Зачем один водитель
убивает другого только за то, что тот его подрезал? Зачем мы не слышим спокойные,
разумные голоса, а с упоением слушаем призывы к насилию, войне, крови? Можно
было бы объяснить нашу ненависть многолетней концентрацией в обществе ненависти
и насилия, порожденных большевистским «бей, круши!», что, в свою очередь, является
следствием марксистского понимания «единства и борьбы противоположностей» –
именно как борьбы безо всякого там единства. Однако, в мире людей нет никакой
«социальной физики», и одно любящее сердце способно остановить килотонны ярости
и злобы. Почему-то не останавливает.
На полке у меня несколько лет уже стоит книга Ренаты Салецл «(Из)вращения любви
и ненависти». Москва, «Художественный журнал», 1999 год. Все время хотел ее
почитать, но все руки не доходили. И вот теперь думаю: дай-ка, прочту эту книгу
и пойму все про любовь и ненависть в современном мире. Книгу я прочел, любовь
и ненависть лучше понимать не стал, но, как мне показалось, понял, зачем автор,
философ, психоаналитик и криминалист из Любляны Рената Салецл ее написала в
мучительно умирающей Югославии, среди людей растерянных, дезориентированных,
мечтающих об обретении своей идентичности. Похожая атмосфера была в России на
протяжении всего последнего десятилетия: государство постоянно находилось на
грани полного распада; люди, уставшие от ненависти, как справедливо писал А.
С. Панарин, в ужасе не могли понять, где же находится та граница, за которой
располагается подлинная Россия; почему столь трагическим образом расходятся
между собой демократическая и государственная идея; кто они такие и что такое
страна, в которой они живут и которую должны любить.
Рената Салецл избегает банальных утверждений в духе пресловутой политкорректности.
Культурные релятивисты, говорит она, не понимают, что их терпимость к различиям
– это всегда иная форма терпимости, которая всегда позволяет их правительствам
решать этнические и расовые конфликты в других странах в соответствии с собственными
интересами. Почему же звучит речь-ненависть, и кто отвечает за оскорбительные
речи – история (социальная среда), или человек? Этот вопрос о бремени ответственности
не такой банальный, как кажется на первый взгляд. Российские дореволюционные
социал-демократы всегда считали, что во всем, что человек говорит и делает,
виновато общество. Деконструктивисты полагают, что говорящий оскорбительные
вещи есть «продукт цитаты». Но, разумеется, всегда есть место для личной ответственности
говорящего, который обязан, ища подтверждения своей идентичности, не растворяться
целиком в социальном и лингвистическом контексте.
Через всю работу проходит понятие о Большом Другом. Виктор Мазин, автор предисловия,
рассуждает о поисках утраченной идентичности в отсутствии отца этой идентичности,
Большого Другого, в качестве которого – по мысли Мазина – выступать могут Бог,
Истина, Просвещение, Коммунизм, Деньги, Сталин и проч. «Нам всегда было известно,
что Большой Другой – это фикция», – пишет Рената Салецл. Она считает, что мы
имели дело не с верой, а с верой в веру других. Так родители, чтобы не обидеть
детей, притворяются, что верят в Деда Мороза; дети же, в свою очередь, чтобы
не обидеть родителей, тоже вынуждены притворяться, что верят в Деда Мороза.
Она считает, что вера в Большого Другого – это просто вера в слова даже тогда,
когда они противоречат тому, что видят глаза. Человеку трудно поверить, что
вымысел это вымысел, и он отчаянно призывает его не быть вымышленным. Что сказать
в ответ на это? Странным является само понятие Большого Другого: это похоже
на то, как ребенок произносит маловразумительное «ка», называя им и кошку, и
машину, и Солнце за окном. Что объединяет Истину, Сталина и Абсолют? То, что
они могут выступать в качестве абсолютной ценности и объекта веры? Но чему угодно
безумный человек может поклоняться, и сам факт ниспровержения одних идеалов
отнюдь не означает ниспровержения всех возможных идеалов. И самое главное, –
то, чем является наша вера, – зависит от того, во что мы верим. Религиозная
мысль говорит о том, что многие наши беды и страдания как раз и проистекают
из неразличения добра и зла, истинного и ложного, высокого и низкого. Как обрести
веру в Бога, если мы перестали в него верить? Сделать это очень сложно, но в
то же время и очень-очень просто: для того, чтобы плавать – нужно плавать; для
того, чтобы быть церковным человеком – нужно жить по-церковному, для того, чтобы
приближаться к Богу – нужно к Нему идти, а для того, чтобы Бог отвечал, нужно
Его спрашивать...
Вся книга, по сути дела, – это попытка понять, что происходит с любящим и ненавидящем
человеком в отсутствии Большого Другого. Один из способов справиться с таким
отсутствием – нарциссическое самопоклонение. Идеология высокой моды в последнее
время настаивает на уникальности субъекта, у которого уже нет потребности одеваться
как кто-то еще. Человеческая индивидуальность – сокровище, которое нужно выставлять
напоказ. Следование лозунгу «Быть собой» предполагает веру в свободное построение
своей идентичности без соотнесения с другим. Генеалогию восприятия субъективности
Р. Салецл раскрывает, анализируя перечень наименований духов Кельвина Клайна.
Она говорит об ответе на атомизированно-раздробленную среду ультраиндивидуализированной
идентификации неформала с сообществом себе подобных, об идентификации африканских
иммигрантов с собственной этнической традицией, и проч.
Без Большого Другого, когда властные отношения нечетки, а авторитеты замаскированы,
люди начинают заниматься играми со своей идентичностью, изменять свой образ.
Человек может вступить на путь самокалечения и самоуничтожения. Автор подробно
описывает клитородиктомию и мазохистский боди-арт, рассматривая их в качестве
попыток преодолеть тупиковые пути постсовременности. В условиях всеобщей перверсии
и всеобщего психоза проявляется недоверие к телу (австралийский художник Стеларк,
например, всем своим творчеством пытался доказать, что наше тело не пригодно
к технологическому уровню современного общества). Рената Салецл склонна усматривать
в самокалеченьи некий животный реализм: субъект не хочет иметь дело с воображаемыми
подобиями и пытается в разрезаемом теле найти место чего-то реального. Но, скорее
всего, это месть телу: когда исчезает дух и прячется душа, и мы остаемся один
на один с вонючим мешком тела, с отчаяньем мы теряем веру в его преображение,
и тогда нам остается его только лишь покалечить. Салецл говорит, что художники,
изменяющие тело, бросают вызов самой идее стабильной идентичности. А зачем он
нужен-то, этот вызов? Если мы все одно едино-живущее и личность каждого не важна,
то тогда, конечно, без разницы – с хоботком мы сегодня идем или с щупальцами.
А если нет?
Автор с удивлением констатирует, что отказ от старых сексуальных запретов совсем
не упрощает любовную жизнь человека. «Любовь и сегодня дело соблазнения». Субъект
ищет новых директив – и вот возникают, например, «Правила» – феминистская версия
старых запретов, движение «Девушек правил» и прочие странности, о которых пишется
в книге. Да, такая вот любовь странная штука, предполагающая не преодоление
всех и всяческих пределов, как сегодня принято считать, а невероятно тонкое
и деликатное осознание-преодоление-установление всевозможных границ, пределов
и дистанций (и не только любовь: истина, творчество, счастье и т.д.). Салецл
дает очаровательное определение предмета любви: это «то, что в субъекте превосходит
его самого».
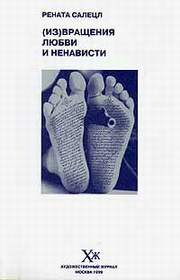 |
Задумываясь над тем, что любит в нас другой, философ приходит к странной дилемме
между голосом и внешностью. Голос в большей степени удостоверяет субъекта, чем
внешность. В фильме Джона Ву «Без лица» детектив Арчер (Джон Траволта) предотвращая
преступные планы страшного злодея Кастора (Николас Кейдж) берет себе его лицо.
Кастор же, видя такое дело, пересаживает себе лицо Арчера. И вот в финале фильма
Арчер и Кастор схватываются на глазах дочери Арчера. Кастор с лицом Арчера кричит:
«Верь своим глазам!». И она стреляет в отца. Еще Салецл рассказывает о чокнутой
художнице, по имени Орлан, которая делает бесконечные операции пластической
хирургии на своем лице и записывает все это на видео. Лицо неузнаваемо меняется,
лишь голос остается неизменным, но его страшно слышать в тот момент, когда от
лица отделяется кожа.
• Вадим Руднев. Объект
а: версии Ренаты
• А. Усманова. Репрезентация
как присвоение: к проблеме существования Другого в дискурсе
источник: Топос