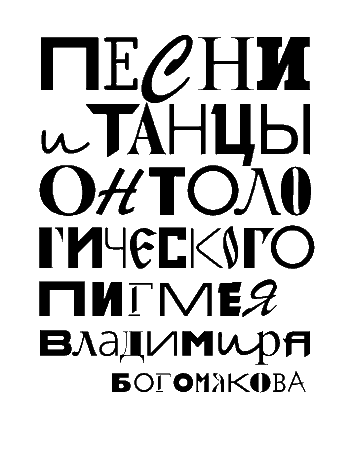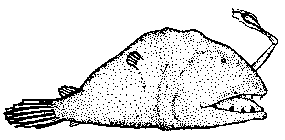Тюмень — Москва
2003
В онтологическом репертуаре пигмея: штукатур-маляр, сторож, бетонщик, каменщик,
грузчик, мойщик машин, рабочий геологических партий, промышленный социолог,
инженер лаборатории прикладной этики, книги по философии и политологии, «Книга
грусти русско-азиатских песен Владимира Богомякова» (Москва. Guzelizdat. 1992),
тираж коей растворился таинственным образом в великих снегах Сибири и Москвы,
фестивали альтернативной и леворадикальной музыки, поднимание температуры в
термометре — 2 раза, стояние на голове, пение в универсаме песни «Жизень моя,
Ты удалася...», доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политологии
в Тюменском университете... В общем — сибирский поэт-самородок, а могущество
России как раз Сибирью-то и прирастает!
СОДЕРЖАНИЕ
НЕПРОСТОЕ МЕСТО
НА ЮГЕ
НЕПРОСТОЕ МЕСТО
ПЕТЬКА ЯЩУР
ЗА САРАЕМ ВЫЛИ ВОЛКИ
«Березу по морозу, что сахарок, кололи...»
ШЕСТЕРОЧКА
НЕФТЬ
«Старушечки много ночей про нее мне шептали...»
«В далекой комнате пустынной...»
НЕ ПИШИТЕ ПРО ЛЕС
ВЕСЕЛЫЕ ГРУЗИНЫ
КАЗНЬ ГЕОЛОГОВ
«В Северном Ледовитом Океане...»
ПУЗЫРЬ-ПУЗЫРЕЧЕК
АГГА — СОБАЧИЙ ЦАРЬ
«Не раскрылся парашют у пацана...»
«Нежеланье Гражданской войны в моем сжавшемся сердце...»
ГОРБАТАЯ МАТРЕШКА
ДВИЖЕНИЕ К ХАМАРДАБАНУ
«Среди голимостей родимой стороны...»
ИЗ НАС НЕ ВЫРАСТУТ ЦВЕТЫ
КОНЕЦ ОСЕНИ
«Забежал с мороза...»
НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ
ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО
ЗЕНОН
АЛТАЙ
МУРМУЛЕТОЧКА
Я НЕ МОГУ ПОПАСТЬ В РОССИЮ
ВИССАРИОНЫЧ
ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ ИЗВЕСТНОГО САРАНПАУЛЬСКОГО РАЗБОЙНИКА
ДОН САЛЬВАДОР
СТАРЫЙ ФИЛОСОФ КРЮГЕЛЬ
ПАРОДИСТ
«Однажды трое пидорасов...»
ВЕЛИКИЙ САВКА
МЕЖШАТУНОВ И КРИВОШИПОВ
ВРОДЕ СКАЗОЧКИ
ГЕНЕРАЛ БЕРСЕРКОВ
ПЕСНЯ
ОБНАРУЖЕНЬЕ ТАЙНИКОВ
СБОРЩИКИ МЫСЛЕЙ
ЛИНИЯ
«Там, где река теряется в поворотах...»
У НАС ОТЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
ПАРТОГРАФИЯ
ПОДЗЕМНАЯ РОССИЯ
«Ночь безбрежна. Ночь темна...»
ПРАЗДНИК ИНТОКСИКАЦИИ
ЖИЗНЬ КЕНТАВРА
ПРАЗДНИК ИНТОКСИКАЦИИ
ОЗОРНАЯ ПЕСНЯ
КАЖДЫЕ 40 СЕКУНД (настоящее стихотворение)
Я НЕ БУДУ
ИЮЛЬСКАЯ АНГИНА
КАРМЕН
АГДАМ
ЗАМРИ
ЗЕМЛЯНАЯ ПЕСНЯ
«Поставь на столе...»
О ПРОБЛЕМАХ СЛЫШИМОСТИ
НА ГРУДЬ ЕМУ САДИТСЯ ГОЛУБОК (отчасти классическое)
7.30
ПЕСНЯ ГРУППЫ «НОЛЬ»
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОХМЕЛЬЕ (постдепрессионизм)
МОСТ ИЗ ПОРТВЕЙНА
ТРИ МЕСЯЦА БУХАЕТ ГОСУДАРСТВО
ПАРАД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ
«Ответь, воскрестьянин, ответь за раздельнопитание...»
«Купчик — серое пальто...»
ЦЕННОСТЬ БАНЬКИ
ЗАПОЙ — 90
БЫТЬ АЛКОГОЛИКОМ
«Мальчик-водка полюбил девочку-селедку...»
«Амиго, не метите мне на косы...»
САМОВАР
ОГОНЬКИ
ВЕТЕР
СМЕРТЬ
ЗАЗАРА (блатная песня)
ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА
«Выпью я бутылку водки...»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ИДЕТ ДО ПУПА
«Детство золотое в сломанных часах...»
ЧЕГО ТЕБЕ НАДОБНО, СТАРЧИК?
РАБОТАЯ НА ШАМБАЛУ
ДЕДУШКА
НЕУТЕШНАЯ МАМА
К ТРИДЦАТИТРЕХЛЕТИЮ ПРОЧТЕНИЯ МНОЙ СКАЗКИ П.П.ЕРШОВА «КОНЕК-ГОРБУНОК»
МОЙ ДЕДУШКА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ (опыт мистического оптимизма)
ЗАВТРА
НЕПОЛАДКИ ВНЕШНЕГО КОНТУРА
«Да, снег придет...»
ДЕКАБРЬ (заметки натуралиста)
ПЕСНЯ СТАРОГО КУКАНЩИКА
«У кого елда красней — у того душа честней...»
ОДА НА ПРИШЕСТВИЕ ВЕСНЫ
«Анекдот, анекдот от железных дорог...»
В МАРТЕ МЕСЯЦЕ
ЖЕЛАНИЕ
САНСАРА, СКРУЧЕННАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ
УДЮДЯ БИБИКОМ
ЛЕТО
РАЗЛИЧИ НЕЯРКИЙ СВЕТ
ОНИ — ОТ КАИНА (обличенье в стихах)
КАК ПОРТИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ КУШАНЬЯ
БУНИН
«Иди, скажи: "Я обитатель моря"...»
ОБИТАТЕЛЬ ДОЖДЯ
«Глаза мои — Бивес и Батхед...»
КАК Я СТАЛ ТЕЛЕПУЗИКОМ
КРАСОТА ПАСЕТ МИР
ОН УМИРАЕТ
БОРМОТАВР
ГОТОВНОСТЬ БЫТЬ УЯЗВИМЫМ
МОЛОЧНЫЙ ОБМОРОК ТВОЕЙ ПУСТОЙ ВСЕЛЕННОЙ
КАРДИОЦЕНТРИЗМ
«Токсин усталости — кенотоксин...»
ГОРОДА
РЕКА
ПЛОХО
ИЗ СТЕН ЛЕЗУТ ГВОЗДИ
ТЕМПЕРАТУРА (Дню Победы посвящается)
«Дефектный, эмоционально ограниченный...»
О, ГДЕ МОИ ЗЛАТЫЕ ДНИ
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
«Уж скоро меня вновь найдут в капусте...»
«Жив ли Колька-ширмач...»
«Любовь между птицей и птицей...»
«Все мирили Бельгию с Голландией...»
ВЕСНА ИДЕТ
ДЕВОЧКА-ФИТЮЛЕЧКА
НЕУКЛЮЩЕЕ СОЗДАНИЕ
«Уронили Мишку на пол...»
БРАТ, ГДЕ ТВОИ ГЛАЗА?
ЦВЕТЫ
МИКРОБЫ ВОКРУГ НАС
«Мандовошечка гуляла...»
РУССКО — АЗИАТСКАЯ ПЕСНЯ
ВОЗВРАШЕНИЕ ПУШКИНА
ПРО ГРИБЫ
ПОУЧЕНИЕ ФИЛОФЕЯ, ЛЕСНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОБ ОХОТЕ НА ЗВЕРЕЙ, ОБИТАЮЩИХ В СИБИРСКИХ
ЛЕСАХ
ДВЕ ДЮЙМОВОЧКИ
ИЗ СТРАН СИБИРСКИХ
ХОРОШО НА РЕЧЕНЬКЕ
«С мышьяковистой водицы сахалинской...»
«Я знаю, Лев, ты можешь умереть...»
АМЕРИКАНСКИЙ МОРЯЧОК
ИНДИЙСКОЕ ЦАРСТВО
ЗМЕЙ
«Барин будет у нас, лишь крещенские грянут теплозы...»
«Где хариус стоит на перекате...»
«Ходил по болотцам...»
СОЛНЫШКО НАД НАМИ
СТАРИЧОК
МАСТЕР ПО ТЕЛЕВИЗОРАМ
ЧЕБУРАШКА
НЕ ВЫХОДИ ЗА УДОДА
ПОД ЗЕМЛЕЙ ЕСТЬ ДОМИК
«Как пукает медведь...»
КОЗЮЛЕЧКИ
ПЕСНЯ О ГОЛОВЕ
МИКРОБЫ ВОКРУГ НАС
БЛАГОСЛОВИ СВОЕ ЖИВОТНОЕ
ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ
ЗАЙКА КИТОВИЧ
ПОТЕРЯЛСЯ ЗАЙЧИШКА
КРОЛИК РЫБАРЕНКО
«Сидел козел на меже...»
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
«Золотого червя не хватает китайскому яблоку....»
ПЛОХО ЛАСТОЧКАМ
СНЕЖИНКИ
«Ехал чувак по фамилии Бриль...»
ЕРШИ
СУХАРИКИ
ЗООГОГИКА
ПРОКЛЯТИЕ СОБАКИ
ГОВОРИЛА МНЕ РЫБА
РЫБЫ
РОДИТЬСЯ РЫБОЙ
УТЕХИ АВГУСТА
«Пойдем, мой друг, картофель по темноте сажать...»
АХ, УВЯЛ ГОРОХ, УВЯЛ
«Обойдя околицу по огородам...»
БАТАЙКА
В МИРЕ НЕ ТАК
БОРИС САВИНКОВ
РАСТВОР АБЕЛЕ
МАЛЕНЬКИЙ ПЕЙДЖ
КАРАМЕЛЬ «СЛИВА»
«Не дотянется врач своим шприцем холодным...»
«Я могу и не брать по талонам...»
ПО МОИМ ДА ПО СНАМ
ПАУЧОК
«Инесса чувствует далекий океан...»
ДЕВУШКИ ИЗ РОЗОВОЙ БУМАГИ
ТАМАРА
САМУРАЙ И КОШКА
БЕСЕДА О ВОЗДУХЕ
АЛЕКСАНДЕР И ГЛАФИРА
КАРАМЕЛЬ «СЛИВА»
СОБАКА И КОШКА
ПРИЯТНОЕ ЧУВСТВО ПРИ РАССМАТРИВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
ТАНЦУЮ ОДИН
КОТА ЛЕОПОЛЬДА ЗАБИРАЮТ В АД
ХОРОШО
НАСТАВЛЕНИЕ ДЕДА СВОЕМУ ВНУКУ
ОДИНОКАЯ КРАСАВИЦА
ОДИНОКАЯ КРАСАВИЦА-2
«Есть в кошке отвратительное нечто...»
Я ВАС ЛЮБИЛ
«На ангельском, на озарянском...»
МОЛОДЫЕ СКВОЗНЯКИ
СМЕРТЬ ТАКСИСТА
«Девки по снегу ходили...»
С ШАРОВОЮ МОЛНИЕЙ
«Писал нубийский тот географ...»
АЙ ЛАВ ТУРЦИЯ
КРАБ ТОСКУЕТ
МАЯКОВСКИЙ
ЖЕНИТЬБА ПУШКИНА
«В цветах и ягодах, в прокисшем черносливе...»
ПЕСНЯ ОРГАНИЗМА
«Ты что ж, Розенбаум, с осенью сделал?...»
ГОСПОДЬ В КОСТЕР ПОДБРАСЫВАЕТ ВЕТВИ
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИГМЕЙ
«Было время и волны катились...»
ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ
ОЖИДАНИЕ ПЕРВОГО СНЕГА
НА ЛЬДУ
«О, чай, как девочка, не думает про завтра...»
ЧАЙ
«Сырая звездочка, сырая...»
ВКУС НЕБЫТИЯ
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИГМЕЙ
ДУША
ДЕВОЧКА
БАЛЛАДА О SKl-ПИДАРЕ
РЕЗОНАНСНЫЕ ЦЕПОЧКИ
НЕПРИСТОЙНАЯ РУГАНЬ
БАБУШКА-МАТЕРШИННИЦА
МАТРОС
ВЫРОЖДЕНЕЦ
НЕЖЕЛАННЫЕ ДЕТИ
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
«Уперев взор в землю...»
«Тихо-тихонечко ляжет в постель существо...»
«Скошенность, придавленность и сжатость...»
«Во мне совсем нет места для Вечности...»
«Лишь чаи, лишь конфеты, лишь рафинады...»
«В земле, обнявшись, как слепые черви...»
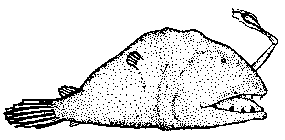
НЕПРОСТОЕ МЕСТО
НА ЮГЕ
На юге холодно. Так холодно на юге.
Индийский чай. Газеты. Беломор.
Клубятся на столе две маленькие вьюги.
И на стекле серебряный узор.
В пространстве самовары, минареты,
Студеной Турции морозные приметы.
Ахмеду строганину принесли.
Хозяйки русской водки запасли.
И люди в шапках из больших собак
Идут гурьбой, скрипя снежком, в кабак.
А нищий на крыльце стоит за подаяньем,
Любуясь в небе северным сияньем.
НЕПРОСТОЕ МЕСТО
Здесь место непростое, Леонид.
Здесь всякий видел то, как куст горит.
Здесь тусклый плод становится вдруг страшен.
Здесь место непростое, Леонид.
Здесь твой беззвучный сон вдруг шепотом украшен.
А у виска все звездочка горит.
Здесь место непростое, Леонид.
И кто же шепчет в зеркале овальном?
Ты спишь в моем дому изгнанником печальным.
И не разгаданы чуть слышные слова.
Здесь место непростое, Леонид.
Здесь червь в земле, а в воздухе сова.
Здесь тусклый плод становится вдруг страшен.
И странная твоя седая голова
Уставила в меня роскошный глаз.
О, не смотри, здесь место непростое, Леонид.
Здесь даже шепчут в зеркале овальном.
И не разгаданы чуть слышные слова.
Здесь червь в земле, а в воздухе сова.
О, не смотри, здесь место непростое.
В пространство выхожу нагое и пустое.
Начало ноября.
ПЕТЬКА ЯЩУР
Петька Ящур готовился лопнуть, как будто сарделя.
Мертвым в сахаре быть он хотел, а не мертвым в дерьме.
Тихой праной страна наполнялась, непрочна, как флокс,
и кончалась неделя.
Тихой раной влажнела страна. Пионеры готовы к зиме.
Как закружит, как спросит: «Откуда ты, парень, откуда?»
И небесны глисты запищат из кровавых ресниц.
Петька Ящур идет, и, должно быть, готовится чудо.
Его ждет хоровод сероватых горбатеньких сниц.
Как за плечи возьмет, как в глаза и как в щеки заплачет.
Как подаст ему крест замороженной черной рукой.
Петька Ящур идет, и, наверное, что-нибудь значит
Вечный ветер, и голубь, и вечный сплошной беспокой.
ЗА САРАЕМ ВЫЛИ ВОЛКИ
За сараем выли волки.
Там закончилась Россия.
Злые дяди у Николки
Ничегоши не спросили.
Ничегоши не спросили.
Что же спросишь у Николки?
Вечер. Волки голосили.
Мальчик в бежевой футболке.
На груди значок «Динамо».
На бровях значок «Динамо».
Впереди — большая яма.
Если б только знала мама!
ХХХ
Березу по морозу, что сахарок, кололи.
Бессмысленны скоты дрова весь день кололи.
Кололи — приговарьвали на тайных языках.
А девки у них видели наколки на руках.
ШЕСТЕРОЧКА
Железные глазоньки скрытой природы,
Две циферки сонных в лице у хохлатого ибиса:
Единица моя — соловейковка церковка
И горбата шестерочка, падла, фетинья.
Как пойду без рук-без ног Богу молиться.
И горбата за мной колыбается.
И горбата за мной, падла, шатается.
Сама поскрипывает.
Сама подпрыгивает.
Сама песни поет.
Как пойду на двенадцать зверей за советом.
Как пойду за двенадцать светил за ответом.
И горбата за мной, вертлянская,
И красится, будто зарянская.
И всю ночь вертится вертушечка,
Пока не закукует кукушечка.
Как пойду по дорожке меж глаз,
А навстречу все мертвые в чертовых шапочках.
«Вы откуда, друзья?»
«Из шестой из губернии,
Из шестерки-деревни
На шестой на версте».
«А куда вы, друзья?»
«Игогоница, милый, поспела.
Нам пора ерохвоститься».
Эх, Господь, для каждой шестерки
Припаси пожирнее туза.
НЕФТЬ
К концу двенадцатой недели
Земля Дагмары и Адели
Сквозь сон, сквозь череду мытарств,
Сквозь сто Эфирных государств,
Сквозь сто безглазых Совнаркомов,
Сквозь день, где в небе чертит знак
Параболический кутак.
Земля Дагмары и Адели
К концу двенадцатой недели...
На сердце смутный гиероглиф.
О, вот и долгожданна твердь.
Тут, все тела свои нахохолив,
На берегу стояла Нефть.
Мы плачем. Мы лишь сон и падаль.
Мы плачем, что суров устав планет.
Что страшно ветр свистит, надежды нет.
И что рубин во лбу — России незародыш.
Что дух, малюсенький заморыш,
Ложится в дрейф...
Что руль разбит и сломана грот-мачта.
И что нельзя нам быть в веках
В пурпурных мантиях и черных париках.
Что на гаданьи ничего нам не сказало
С кровавой капелькой тяжелое зерцало.
Что есть ужасная загадка,
Далекий колокольный звон,
Во тьме сожженная тетрадка...
У Нефти миллион ежиных глазок.
У Нефти миллион прелестных сказок.
Про лазарет, Утильзавод,
Про скрытый под землей народ,
Ямайский перец и душистый кедр,
Про то, как нас следит из недр
Незримый сторож человеков...
А дети в небе били в бубен.
Был наш авось смертельно труден.
И салотопенный народец
Вел под ногами хороводец.
Соединяйся плуг с землею,
Соединяйся муж с женою,
А дерзкий сокол с вышиною.
И пролетарии всех стран.
Грузин — грузин. Испан — испан.
ХХХ
Старушечки много ночей про нее мне шептали.
В темноте, салаше, с черной корочкой, слезкой соленой.
Есть великое тайное дело рок-музыки.
Как услышишь ее — восподымет тебя
От нашей земли, что неправильна,
Во Сорочее царство.
Как услышишь ее —
Гастрономные зюзи станут ликом светлы и белы.
Глядь — народ уж не тот озорник.
Табакер пранаяму считает,
А у старичка, у куклюя, вмиг пропали икота и чих,
Параличная фефя вприсядочку ходит.
Кто услышит рок-музыки звуки —
Зачтется тому и в Книгу записано будет...
ХХХ
В далекой комнате пустынной,
В печальной внутренней стране
Шагают звери по стене.
Шагают, лапками махая,
Меланхолически вперед.
И колокольчик, дар Валдая,
Медведю вшит в картонный рот.
Сбил с губ эмаль поганый Зайка,
Блаженной памяти жених.
А Зайку бросила хозяйка.
Он вдаль шагает и затих.
За ним идут пустые гуси,
Что проживали у бабуси.
За ними лисанька с манильской сигаркой...
(Она пойдет на фронт санитаркой).
НЕ ПИШИТЕ ПРО ЛЕС
Не пишите про лес.
Вместо сосен стоят унылые люди.
Не пишите про небо.
Ведь небо —
Лишь длинная очередь старых уставших людей.
Не пишите про реки.
Ведь реки —
Потоки серых людей изможденных.
Им страшно.
А вы выходите бродить в числовые поля.
И спать оставайтесь в том домике, где
Барабаши вонючие тюкают в стены.
И мама без глаз принесет вам воды.
И ваши безгрешные сны
Есть метрические пространства,
Где полжизни проводите вы
По закону непостоянства.
Пишите про Горбачева,
Про евреев, про крымских татар.
Не пишите про снег.
Ведь снег —
Это жмутся друг к другу сотни и сотни серых людей.
А вас замуруют в гексаэдр,
И гексаэдр выведут на орбиту Земли,
И будут вам в уши вдувать, что родина слышит,
И что родина знает, будут вдувать
Посредством радиоволн.
ВЕСЕЛЫЕ ГРУЗИНЫ
Веселые грузины
Хату подпалили.
Вот направо болт забили.
Вот налево болт забили.
Без трусов — плясать!
И вприсядку, и вприлежку.
Асса, Грузия моя!
Кто, как жизнь, торчит в окошко,
Словно клюв у петуха?
Надо зонтик приготовить —
Солнце станет в нас плювать.
Будем пить, барашек рэзать
И от Солнца убегать.
Дорогой, давай граната.
Дорогой, давай патрон.
Дорогой, давай Тбилиси.
Дорогой, снимай палто.
Как поется в русский пэсня:
«В чайник бросили гандон».
КАЗНЬ ГЕОЛОГОВ
Критериальный судья
Выделял тепло для генерации
Рабочего тела энергетической установки.
Свидетели поцеловали
Сандалии бога Ваю.
А зрители и пионеры
Сидели на красной циновке.
Судья был малый незлобный.
Просто у него был энтеробиоз.
Иначе говоря, много сантиметровых остриц
Паразитировали у него
В тонких и толстых кишках.
Судья сказал: «Давай, прокурор!»
Сказал и поморщился.
Прокурор сказал:
«Вай, плохие люди, сагиб.
Мой ходил на тот сторона.
Мой все видел.
Как они нередко усложняли
Взаимоотношения человека
С окружающей природной средой,
Внося весьма заметные
И непредвиденные изменения
В экологические системы,
В регуляцию биосферы в целом...»
«Так! — сказал прокурор, —
«Казнить их на фиг, гадов!»
Главного геолога вывезти на мыс Херсонес
И там закозлить.
А его заместителя
Отправить на остров святой Елены.
А всех остальных — на орбиту Земли,
Куда мы запускаем всякий мусор.
И чтоб без права переписки.
А то — думают с ними шутки шутят!»
Сказал и спустил свои сточные воды.
Свидетели, крякая, разошлись.
Разошлись зрители и пионеры.
Лишь кто-то маленький
Плакал в углу.
Плакал об этих бедных геологах.
И о тебе. И обо мне.
И о нашей страшной судьбе
В этом мире,
Где что-то всегда окружает,
Называя себя окружающей средой.
ХХХ
В Северном Ледовитом океане
В Нансена котловане
На глубине 4000 метров
Сидят на стульчиках трое смердов.
Не беседуют. Сидят, закрыв глаза.
Ибо только безумный умножает словеса.
ПУЗЫРЬ-ПУЗЫРЕЧЕК
— Пузырь-пузыречек, вон твоя дочка.
— Это не дочка — одна оболочка.
А дочка моя в светском смысле прелестница.
А дочка моя совсем бестелесница...
— Пузырь-пузыречек, вон твой сыночек.
— Это не сынок, а с ножками хренок.
Ну, а сынок мой идеален
И полностью спиритуален.
— Пузырь-пузыречек, вон твоя мама.
— Это не мама, а болельщица Динама,
А мама моя совершенно естественно
Вокруг существует вполне невещественно.
— Пузырь-пузыречек, вон твоя родана.
— Это не родана. Родана продана.
АГГА — СОБАЧИЙ ЦАРЬ
Агга — собачий царь
Листик лапой поймал.
Слуги врежут в ладони
Безвозвратности знак.
Слуги схемы начертят
Пролетных путей
Так называемой саранчи
Из нашего мира в другой.
И я просыпаюсь
От толчка в солнечное сплетение.
И в клетке скребется маленький
Так называемый хомяк.
Но хомяк — он не фунт изюму.
Но хомяк — не шухры-мухры.
И недаром в Успенке — деревне совхозной
Говорили под вечер тревожно:
«Комяки идут, комяки!»
Идут комяки:
У растений наступает минеральное голодание,
У девок от недостатка магния светлеют глаза.
И в стольном во граде Москве
Есть так называемый Кремль,
Посреди Кремля стоит стол.
В столе лежит советское знамя,
Ползают по советскому знамени Кроссастер, патирия
И рубена,
С чавканьем пожирающая мидий.
И все говорят:
«Мы крутые, Бердяева читаем».
И вcе говорят:
«Мы духовные, а все что-то стали бездуховные».
И все рассуждают
О Дьяволе, о Боге,
Будто им Бог Петр Петрович.
О, суки!
Не заботьтесь о человечестве
И оно вам скажет Спасибо.
Пойдите на улицу.
Он там будет сидеть.
Так называемый пес.
Если повезет, то увидите,
Как Агга — собачий царь
Листик лапой поймал.
ХХХ
Не раскрылся парашют у пацана.
Смотрит — а под ним лежит страна.
Она лежит, раздвинув ноги.
Глаза пусты и одиноки.
ХХХ
Нежеланье Гражданской войны в моем сжавшемся сердце.
А под сердцем целуются серп с молотком.
А на сердце ягненок в шатре, пораженный копьем.
А как в правом глазу —
Там повстанцы с любовью сидят на возу.
А как в левом глазу —
Комиссар видит птицу в кровавом тазу.
А во лбу моем корчится Крым,
Корчится Крым с хребтом переломанным.
И только — тсс!
Экономия и бережливость.
Ноги знают, чьими трупами
Им идти.
И только у тех,
Кто уже в нашем небе шагает
(Время — вперед!).
Полные лапти керенок свежих.
ГОРБАТАЯ МАТРЕШКА
В пространствах таятся пространства.
А. Белый
Но, если только к криком петушиным
Весна свой грязный не откроет глаз,
Поедет по пригорочкам мышиным
Малюсенький печальный тарантас.
В пространствах ошиваются пространства,
Все на понтах с нахмуренным челом.
И мальчик — предводитель тараканства
С портвейнами нагими за столом.
Не вытряхнешь пространство из пространства.
Горбата ты, апрельская матрешка.
И я боюсь навечно здесь остаться,
Другое так и не узнав пространство.
А мальчик он шуршит, шуршит, как книга.
А мальчик липкими усами шевелит.
Красны его глаза, и ветер не ворвется.
Безветрие — и я хочу проснуться.
Во всех предметах чудится уже
Каюк алмазный, истребленье всякой плоти.
Закрой, закрой... Закрой скорей глаза,
Чтоб только, не дай Боже, не увидеть
Угрюмые весенние предметы, наш мир
И наготу твоих отцов.
Так и сиди с закрытыми глазами.
Жди — и посланец точно принесет
Тебе масличный лист в разбитом клюве.
ДВИЖЕНИЕ К ХАМАРДАБАНУ
Лежат, принадлежат могильные поэты
В гробу, и к солнечку был пятилетен план.
Крест водяной, все ангелы кружили.
Далекая страна, как говорят блатные.
Но, если в небе Мать, не страшен морзый лес.
И церковь на ладонечке.
И церковь на пригорочке.
И домик был на горочке.
Там ангелы плясали
И плакал дрозд про будущую жизнь.
Блуждает грамматическоe Я.
Ему навеки заповедано веселье.
А в небе все растет Хамардабан.
И пляшет, пляшет мелкий червячок.
Он пляшет, на веревочку привязан.
И в дудочку играют.
Он пропал.
ХХХ
Среди голимостей родимой стороны
Он произнес глагол о гордом славянине,
А показалось, что сказал он: «Слава Нине!»
И вдруг нахохлился Папаниным на льдине
И вдаль уплыл, но не в Мамврийские дубровы, —
В места, что так поганы и суровы,
Где вспыхнет правдою во мраке папироса,
Где спящим притворюсь и убоюсь вопроса
Простого о житье-бытье.
Среди голимостей родимых и славянских,
Среди глаголов гордых, ледяных, дубровно-вот-суровых,
Среди торчащих здесь столбами папирос,
Среди вопросов и произнесений,
Среди мамврийцев-сук и их дубов и мрака
Жил человек с фамильей Тугосрака
Среди столимостей родимой голины,
Где ты папанился и хохлился на льдине,
Где притво-убоюсь сказать тебе, скотине,
Что дуб суров в родимой стороне
И что суровей родины голимой,
И что Папанина сурового любимей.
Вся правда, вспыхнувшая папиросцем,
Что висла неотвеченным вопросцем.
ИЗ НАС НЕ ВЫРАСТУТ ЦВЕТЫ
Из нас не вырастут цветы,
Когда Москва с Аддис-Абебой
Во тьме беседуют на ты.
Между Землею и Луною
Плывут во тьме учителя.
В моей груди — макет Кремля.
Вот спонсор ветра и дождя,
С орлом на розовом погоне,
Подъехал в мраморном вагоне.
Нью-Йорк смотрел с его ладони
На очертания людей,
Что неподвижны на перроне.
Наступит время все менять.
Кого любили — обвинять.
Предпочитать повидло хлебу.
Иметь в груди Аддис-Абебу...
И лишь бессонные коты
Во тьме беседуют на ты.
Из нас не вырастут цветы.
КОНЕЦ ОСЕНИ
Как прострелили незримого волка
Осенью грязной и золотой.
Принесли колбасы и пива
И сели под небом с раскисшей звездой.
Кузнечика пришпилив к козырьку фуражки,
Старик самогона хлебнул из фляжки.
Природа вдруг повернула к затишью.
Но что там сверху летучей мышью?
Неловкое заоблачное
Плывет над нами, как воздушный ледок.
Какой-то, что ли, с клекотом схожий небесный ток.
Как что-то вовсе не природное, то есть природе инородное.
Как какое-то, елки, просто марево.
Может, и нет его вовсе.
Только в этот вот миг все мы поняли:
Мир, каким мы знали его, подходит к концу.
ХХХ
Забежал с мороза,
Выпил спиртовый столбик термометра.
«Ну что, Сварожичи, подайте закусить.
Позвольте мне колбаски попросить».
Я сделаю фенологический обзор
от Ленинграда до Гонконга.
Катают мерзлого сурка, как шарик от пинг-понга.
На озере лед толст, как задница.
В зимовальных ямах сонная рыба.
Ледяной океан.
Снежный остров Буян.
Камень Алатырь — мерзлая глыба.
У зари у вечерней холодные очи.
Черви спустились в незамерзшие горизонты почвы.
Я видел снежинку — шестилучевую звезду.
Кеплер,
Рассматривая ее в 1611 году,
Установил, что лучи ее расходятся
Строго под углом 60 градусов.
НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ
Мы меняли походку и лица.
Был странный февраль,
И знамений просили, и ехали в ночь веселиться.
И молчал за спиной нерушимый наш край.
Кто же первый сказал: «На горе Елеонской...»
Это что за гора и к чему нам о ней говорить?
И зачем каждый вечер звезда над дорогой горит
И на нужных страницах раскрываются старые книги?
Мы закроем глаза и увидим недавно умерших.
И трезубец «омеги» сияет в закрытых глазах.
Что же небо другое там, над горой Елеонской?
Это небо сияет лишь только в закрытых глазах.
ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО
Будь готов ко сну и смерти
В нездоровом сердце крестьянской страны.
Глядит со стены и с небесной тверди
Очищающий ны.
Миллиарды ртов произносят,
Читают Господню молитву:
«Отче наш, Иже еси на Небесех!»
Планеты беззвучно читают:
«Да святится имя Твое,
Да приидет царствие Твое,
Да будет воля Твоя,
Яко на небеси и на земли».
И нервными импульсами,
Вибрациями нейронов, аксонов:
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь».
Каждый день превратится в вектор,
В отрезок, направленный к Богу.
«И остави нам долги наша,
Якоже и мы оставляем должником нашим;
И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукавого».
Лукавый нежился
Среди иглокожих тропических мелководий,
Среди морских лилий, зеленых голотурий и офиуров.
Избави нас от лукавого.
Лукавый наблюдал
За жителем Мекки Магометом,
Называемым также Мухаммедом,
Который рано остался сиротой.
Лукавый знал, что со временем
Арабы перейдут Гибралтарский пролив,
А в штате Калифорния возникнет гигантская трещина.
ЗЕНОН
Где дяхан с пауком расписывают пульку,
Там бредит пулька траекторией полета,
А траектория не получается чего-то,
Поскольку прав Зенон
И всяк летящий будет неподвижен,
Раз время составляют отдельные «теперь»,
И каждое «теперь» способно удручать,
Как удручает нас мешок, набитый всякой дрянью.
И всяк летящий плачет в уголке,
Поскольку всяк летящий неподвижен.
И со всех стен оскалился Зенон — отец застоя.
И неподвижны дяхан и паук.
И неподвижно время, как сундук...
Лишь сердце, как незримый урлачок,
По серым кувыркается сугробам.
И всякий, запершись на свой крючок,
Ждет Пасхи и пришептывает: с гобом.
АЛТАЙ
Зачем на машинах пишут «Алтай»?
Они не знают, что значит «Алтай».
Фамилия его была Рерих.
Он стоял в шапочке и с бородой.
В прихожей кто-то сказал:
«Давайте зарежемте...»
Бамбуковую палочку приставить к пупу.
Тростниковую палочку приставить к носу.
Он, должно быть, был врач. А жену
Его звали Елена.
После смерти она
В облачном небе носилась,
Сея тревогу.
Мальчик заплакал — она подлетела.
Что ты плачешь?
Кто-то там, в сундуке...
Ну, насмешил. Ну, потеха.
Шамбала скажет. Шамбала спросит.
Шамбала бар. Шамбала ек.
МУРМУЛЕТОЧКА
Что ни баба, то Кааба.
Что ни дядька — политрук.
Только красная собака
Заскулила поутру.
И из зарослей кипрея
Мурмулеточка, белея,
Выходила на простор
(Ростом с чахлый мухомор).
Ее губки, как у змия.
В ее глазках — энтропия.
Одета в серый пальтуганчик.
И на поясе — наганчик.
Она шагает, как тиранчик.
На голове ее — бубенчик.
И даже Солнце меняет свой знак.
И скоты выбирают смерть вместо жизни.
И комсомолец вяжет железный галстук.
И дядька — в углу, ненужной бумажной клюкой.
И баба — в другом, пигалицей или безделкой.
И книга — лишь пень да могила, да дохлый орел.
И глагол — он больше уже не глагол.
Он гвельф какой-нибудь.
Какой-нибудь там гибеллин.
Какой-нибудь там пидор трапезундский.
Ох, и слава теперь не живая водица.
И Святополк теперь Святоклоп.
Доктор, доктор, убейте ее,
Ту, что зовут мурмулеточкой.
Я НЕ МОГУ ПОПАСТЬ В РОССИЮ
В эту осень я стал реалистом и ждал противодействия.
А за окошком народ больше не ждал благоденствия.
Мертвые кадры, волхвы, мандарины...
Сэстэмный подход.
Брянщина, Дрянщина и Юрюзанщина...
Русский народ.
Полковнику в темячко воткнут флажок.
В соседнем колхозе — марксистский кружок.
Хэй, я не могу попасть в Россию!
В сентябре 86-го я видал Васильева.
Он грациозно крестится: «Спаси и помилуй!»
Он говорит, что над Плещеевым озером
часто наблюдают НЛО.
И сам он наблюдал НЛО.
И бабушка моя наблюдала НЛО.
И знакомый грузин наблюдал.
И наблюдал весь город Мандельштам.
И полковник навытяжку наблюдая...
Хэй, я не могу попасть в Россию!
Вот уже месяц не строит ситар.
Раньше кузнечик по кличке Вишну
(А сам он из крымских болгар)
Пел на краешке черной бездны
О моих постыдных влеченьях.
Раньше пел — теперь обломался.
Ах, только б не рухнул мой внутренний Кремль.
Ах, только бы я не сломался.
Иду по безвольным дорогам,
Безвольные глажу плетни...
Порой очень долго сижу я в кустах
С молитвой в руке и с мечом на устах.
И — не закрываю глаза.
(Не увидеть бы дьявола)...
А время кукушкой берет управленца в белом трико.
О, скоро зима. О, скоро опять белизна, молоко.
ВИССАРИОНЫЧ
Бывший партаппаратчик Кондрат посвящен в тайнознание.
Нужен огнь, черный плат, Ундервуд, партбилет...
И на глиняных лапах выходит в соцполночь
Кот Виссарионыч...
Иерархи котов, вопреки фарисейской закваске,
Возрыдали, завидев дикретический глаз,
И фатальную страшную пасть, что зияла глубоко,
И узрело владыку котов кошачее всякое око.
Лишь один котик-миф, персонаж, котик-дротик,
Аритмичный и эгоцентричный,
Весь паршивый от самости,
Вставил словцо,
Покраснел, захихикал и в лапы упрятал лицо.
И тотчас был разодран в кровавые клочья.
А товарищ проверенный лапы скрестил на груди.
Ибо время пришло.
Ибо плакал от счастья незрячий котенок,
Извиваясь, подобно змее.
Ибо в ночь маршируют коты,
Начиная свой яростный вой.
Ибо глотки теперь неземных акустических свойств.
Новый град, в небе коршун и топот бесчисленных ног.
Перерожденцы, сомнитесь в комок!
Вот в форточку крикнул Кондрат:
«Кис-кис-кис!»
И в каждом из кис был большой звукосмысл.
Вот Кот возникает, как метеорит,
И шерсть его полной Луною горит.
Победной отвагой полна его речь.
В устах прорезается бритвенный меч.
Кондрат потрепал шалуна за бока.
И дал ему хека, и дал молока.
ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ ИЗВЕСТНОГО САРАНПАУЛЬСКОГО РАЗБОЙНИКА
Под этим камнем
Лежит Коляй.
Любовь, поборов Честь, дала ему Жизнь.
Но Смерть, принеся в его жизнь Ложь,
Ввергла его в Бесчестье.
Но Свобода Правдою Ложь попрала
И этим попрала Смерть.
Но тут Честь поборола Любовь
И унесла его Жизнь.
А дело было так.
В Саранпауль приехал Абрамка-магнитезер.
На сцену он вызвал молодую зырянку,
Неприступную горлицу,
Первую красавицу Саранпауля.
Он вызвал на сцену ее,
Надавил ей на верхние чакры
И впала она в гипнотический сон.
Он велел раздеваться,
И стала она раздеваться.
И разделася до трусов.
А публика хохотала.
Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.
Очнулася девушка.
Не может понять не хрена.
Она говорит:
«Ах, я, должно быть, спала».
И тут Коляй в Абрамку стрелил.
А Абрамка в Коляя.
И померли оба.
ДОН САЛЬВАДОР
Дон Сальвадор родился в недрах Солнца.
А на Земле опять была война
И победили, кажется, испанцы
Или другая славная страна.
Дон Сальвадор служил усердно Свету,
Пройдя сквозь линзу, зажигал газету.
Он на красавиц наносил загар,
Чтоб их коварный полюбил завгар...
И вот в награду за его большое дело
Дон Сальвадор переселен был в тело...
Среди могил спал город Могилев.
Вот кто-то в шляпе вышел из дверей.
И двое пьяниц спорили впотьмах:
Еврей то вышел или не еврей.
СТАРЫЙ ФИЛОСОФ КРЮГЕЛЬ
Она карлица вишневая. Губки ее пенятся.
А он старый, нудный философ Крюгель.
На ней он не женится.
А это — памятник многометровый,
Похожий на тетку гражданки Петровой.
Непоседлива карлица, словно стрекозка.
Пальчик ее из воска.
Ах, старый, ах, нудный философ Крюгель.
Он хочет свой домик и хочет свой флюгер.
Он хочет свой бисер. Он хочет свой кофе,
Он хочет чего-то там в Облсовпрофе.
Хочется петь — выходит пыхтенье.
Он хочет хотеть — уходит хотенье.
И с понедельника, что твой Иран,
Сохнет глухая в банке герань.
Прощайте, о карлица, с кармой плохою.
Прощайте, о Крюгель, с вашей трухою.
Прощай, неведомый нам вождь.
Вождь веки тихо закрывает.
Лишь только дождь.
Лишь только дождь
По бронзе клитора стекает.
ПАРОДИСТ
ЦИИН ООБИ ННУ.
Ты завершил свою войну.
И слушал колокол подводный,
Самозабвенный и свободный.
А по раскрытой книге плыл фрегат.
Ты улыбался и в руке сжимал агат.
ЦИИН ООБИ ИС.
Ты грозный пародист.
Ты говорил:
«Смотри, могу я тоже сделать человека!»
Ты в воздухе чертил остроконечную звезду.
Как первый лучик — маленький эсер.
Он в гробике уплыл в ЭС ЭС ЭС ЭР.
Как лучик номер два — коротенький асур.
Он улетел в небесный город Ур.
Как третий лучик — мелкий дэвасур.
Четвертый лучик — нерожденный рус.
А лучик пятый — муравейный туз.
Где ж человек?
ЦИИН ООБИ ННУ.
Ты говорил:
«Я тоже сделаю страну».
И вот —
Постройки, стройки, новостройки,
Ревтрибуналы, птицетройки.
Вышкомонтажи, местокойки,
Единоверы и покойки,
Дерьмушки, храмушки, хромужки,
Анархмонтаж и мондомушки.
ХХХ
Однажды трое пидорасов
(Их звали Пушкин, Лермонтов, Некрасов)
Везти с поклажей воз взялись.
Глядят — а вместо леса Гоголь.
Бегут в испуге.
Глядь — по Гоголю бегут.
И на возу, и на возу-то — Гоголь.
А Бунин думал: полночь, поздняя осень, мороз...
О, не смотрите вверх! Там Гоголь,
К педерастии склонный малоросс.
ВЕЛИКИЙ САВКА
Дядюшка от дяденьки недалеко падает.
В комнате у тетушки с потолка капает.
В комнате у тетушки со стены капает.
В комнате у тетушки с пола капает.
А в окошке — Великий Савка.
Позавчера здесь прошла граница.
Сидит солдатик на елке и матерится.
Воробей ковыляет по небосклону,
Как фанфурик одеколону.
Встает из моря Великий Савка.
МЕЖШАТУНОВ И КРИВОШИПОВ
Товарищ, гляди, экстрасенсы жируют.
Набрали портвейна мешок и пируют.
А Межшатунов и Кривошипов горюют.
Третий месяц как голодуют.
Экстрасенсам и дьякон, и пономарь
Нарезают огурчик и подносят стопарь.
Говорят экстрасенсы:
«Мы спасем тебя, Русь!»
Улыбнулся из печки жареный гусь.
Эстрасенсным величьем ослеплены
На тарелке заерзали чудо-блины.
Межшатунов, Кривошипов заходят бочком.
Заедают соленым они паучком.
Перекрестятся, вместо сметанки
Наболтают в лохани болтанки.
Сплюнут с горечью, выйдут на улицу —
Таракан там тискает жужелицу...
Царство, царство, великое царство.
Так, вспотевши от страха, бегут караси не на юг,
Не на север, не на запад и не на восток.
Поезд пукает, поезд воняет
И везет миллионы пудов
Сушеного комарья.
Хлебопашества знамя
Реет над баней публичной.
Межшатунов, Кривошипов —
Гордое племя... Бе-бе...
ВРОДЕ СКАЗОЧКИ
В воздухе висит стол.
На столе — кусок сыра.
В куске сыра — червячок.
У него изумрудные глаза.
У него длинные-предлинные ресницы.
Ресницы торчат из куска сыра почти на метр.
На ресницах стоят
Малюсенькие украинские хатки.
А около хаток —
Малюсенькие вишневые садочки.
А в малюсеньких садочках
Малюсенькие монашки
Собирают с веточек
Вишенки — воробьиные оклевушки.
(Про оклевушки см. у Лескова).
ГЕНЕРАЛ БЕРСЕРКОВ
Мы рождены под странной геометрией,
Питомцы той унылой медицины,
Что очень плохо знает по латыни
И говорит, что, да — земля сырая.
И говорит, что, да — честной народ.
И говорит: «В натуре пиво...
На тачку и к толстушке-раскладушке...»
И говорит: «Медуза вся без ног...»
А это и не ноги — это щупальца...
Но генерал Берсерков —
Он хочет нам помочь.
Но генерал Берсерков
Смотрит на нас сквозь ночь.
Стар его серый китель.
Потерты его штаны.
Махариши Берсерков живет на орбите Луны.
А я ожидаю радость,
Душою чту Шивананду
И с Мишею Федосеенковым
«Три бочки» в пельменной пью.
Двойник мой остался в Сызрани.
Бэ Ельцын сидит в телевизоре.
Доверенные лица провиденья
Выходят из известного всем заведенья.
Но генерал Берсерков верным помощь дает.
Белый астральный голубь с ладони зерна клюет.
Страж в золотых паутинках
У Вселенной смотрит из чрева.
Мечтает милый Берсерков,
Что помирит огонь и древо.
Восьмиконечной двуцветной звезде
Хочет сияться всегда и везде.
И хочется каждой монаде чудесить
И каждому сердцу в ночи куролесить.
И очень желает каждый мудрец,
Чтоб не настиг его злой бодунец.
Эй, бабушка, не мучай Соложа.
Не тыкай его лезвием ножа.
Знай, волосок на носу теребя,
Генерал Берсерков — он любит тебя
ПЕСНЯ
Из единства — множество.
Под забор — крапива.
Новые начальники.
Новый календарь.
Накатив кагора,
Пляшет мандрагора,
И въезжает в город
Новый государь.
А как наши звездочки
С капельками крови.
А как нашей матушке
Крысы сгрызли брови.
А наш добрый батюшка
Сутки дует чай.
Спи, любезный братец.
Спи и не серчай.
ОБНАРУЖЕНЬЕ ТАЙНИКОВ
Обнаруженье тайников —
Вот ремесло мое, мой ангел.
Когда я в черной епанче
В твою избенку лубяную
На красном заходил луче,
То ты топорщился в углу
Холодной радугой клыков.
Обнаруженье тайников. Да-да.
Я голубком в твой дом влетал
И ударялся о ковер,
Чтоб обернуться молодцом стальным.
Я говорил тебе: «Василий,
В другой губернии я знаю сена стог,
В которой спрятал ты запретный кочедык».
Ишь как ты бледен, как твой дернулся кадык!
Так было.
Ныне же, мой ангел, вокруг сплошные явняки.
А для обнаружения явняк уж слишком труден.
СБОРЩИКИ МЫСЛЕЙ
Федор и Павел — сборщики мыслей.
Они в медленном воздухе, как коромысло.
В мире Господнем строгий порядок.
Наши собаки спят между грядок.
Розами бредит наша зима.
Наши балконы вцепились в дома.
Наши планеты тверды и грубы.
И некрасивы наши гробы.
Федор и Павел знают закон.
Мысли пушисты возле икон.
Мысли колючи возле больниц.
Мысли сухие между страниц.
Важные мысли в бронзовых ртах.
Влажные мысли в снятых трусах...
Федор и Павел любят Высоцкого.
Им, чем бархатного, лучше жигулевского.
И еще они очень любят Москву.
Москва златоглавая встает.
Она говорит, и весь мир ее слушает.
А голос у ней такой, что дрожит земля.
Огромные трещины землю рассекают.
Люди в трещины проваливаются, что твои таракашки.
Говорит Москва, говорит.
Голова у нее — Мавзолей.
Туловище под землей,
Зад вылезает то в Чернобыле,
То в Тегеране,
То вылез из дна под водой в Охотском море.
Федор и Павел — дорогие москвичи.
Ну что им сказать на прощанье?
Доброй вам ночи, дорогие москвичи.
ЛИНИЯ
Пограничник не любил свою собаку.
На обед ей давал лишь земляных червяков.
И собака с горя стала вороной.
Гордой птицей с перебитым крылом.
А черный шар, подлетая к Земле,
Тихо гудел, тихо стонал.
Линия, линия, линия, ли...
Линия гордая, как Шварценеггер.
Мальчик хотел стать актером,
А девочка кошкодером,
Но увидев гордую птицу с перебитым крылом,
Она стала человеком молчаливого подвига.
А черный шар висел над Заводоуспенкой
И у людей ухудшалась память.
Линия, линия, линия, ли...
Линия стремительная, как Брюс Ли.
Пограничник забыл про свою собаку.
Он стал толстый, много спал и плохо охранял границу.
Ему снилось, что в голове у него развелись улиты.
И хочется золоченой пилюли.
И вокруг — Господня земля.
И матушка-казарма в облаках.
И стремительность всего происходящего.
И заболит у тебя жевательная поверхность.
И сунут тебе кузнечика за щеку.
И три авроры подерутся под мостом.
И стоять тебе весь век с ведром морали.
И видеть тебе огненный крест Нарцисс
на Люсином бедре
И руки в мусорном ведре.
Линия строгая, как Белинский.
ХХХ
Там, где река теряется в поворотах,
Висит гандон на воротах.
А в домике отрок живет с отрочицею
И едят бутерброды с горчицею.
Пришла весна красная с песнями, с ливнями,
Та й с чаривнями и жирными земляными червями.
А ти били лыбыди
Та выбилять на води.
А ти били ыбыди
Та билять на води.
А ти били быди
Та илять на води.
У НАС ОТЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
У нас отличная история.
И даже есть запасы тория.
Тунгусский есть метеорит.
В тайге сибирской он зарыт.
Ворона, надо мною каркия,
Кричит: «Автаркия! Автаркия!»
От русских конфект
Усиливается бинауральный эффект.
Крестьяне русские для вас
Всегда станцуют падеграс.
А пресловутый русский брутализм
Всяко лучше, чем постмодернизм.
И такая иной раз идиллия,
Что балдеешь, как пермского периода рептилия,
В теплой, слегка вонючей, воде,
Со всякими водорослями в бороде...
ПАРТОГРАФИЯ
Партография, йе.
Слишком мало всего на бескрайних российских.
Слишком мало в порывистых снах.
Если ветер со стуком в окно. Я не знаю.
Партография, йе.
Движим чаем, любовью, бессоницей, страхом,
Черепахой, Христом, Сатаной, Карабахом
И рукою, проткнутой ножом,
И последним Твоим этажом.
Я закрою на ключ. Я не знаю.
Как из крана польется вода.
Партография, йе.
Слишком мало приходится жить.
Слишком мало в написанных книгах.
Слишком мало в словах.
Слишком мало в дожде.
Слишком мало всего на бескрайних.
Слишком мало всего. Я не знаю.
Партография, йе.
ПОДЗЕМНАЯ РОССИЯ
Дети бессмертья читали во тьме Патанджали пытливо,
Новая химса черна, а натура всегдашне черна.
Сердце бубнит гордецу вседневно, смурно, терпеливо,
Что предстоит молодцу путь золотого зерна.
Ах, не воззрети из недр в ваши жемчужные лица,
Что посрамляют комет радостный в небе полет.
Ах, как у ваших колес светят алмазные спицы.
Ах, голубиной четой небо к вам в гости придет.
К нам в непроглядность сюда кличут эфирные клиры.
Мглистый седой человек рваной увенчан звездой.
Лапками на потолке, о твоя брюхоногая мокша.
И в Читтаказе твоей побредем без Полярной звезды.
Мы в непроглядной нощи молодые глубинные гравы.
Знаем мы нрав вещества, жирную нефть и металлы.
Глазоньками по стенам насекомые кармы.
И в Читтаказе твоей пляшет ресничный червяк.
Дети бессмертья во тьме чертеж проверяли пытливо,
Толща черна и черна на рассвете страна.
Далекая лава бубнит вседневно, смурно, терпеливо,
Насколько прекрасен в нощи путь золотого зерна.
Посмотрят грунт. Как, подходящ ли для левкоя?
Здесь полк погиб за точку вечного покоя.
ХХХ
Ночь безбрежна. Ночь темна.
Вышел голубь из окна.
Спят Мещера и Мордва,
Неподвижны, как дрова.
Просинец генварь вокруг.
Две поленницы — на юг.
Темнота и нет вестей
Из Славянских Областей.
Голубь ходит по дворам.
В дверь, ненужную ворам,
Тихо он вошел и зрит:
В воздухе младенец спит.
Что характерно, спит в трусах.
Сам в жилетке, при часах.
Так светло его лицо
И на пальчике кольцо.
Что характерно, спит один
Этот странный господин,
Который чудно многоног.
И где-то среди этих ног
Есть электрический звонок.
ПРАЗДНИК ИНТОКСИКАЦИИ
ЖИЗНЬ КЕНТАВРА
Я чувствовал — меня не любят люди.
Был близок Хаос и далек Эдемский сад,
Когда-то виденный на асфодельном блюде...
И я во тьме чесал копытом зад.
Я чувствовал — меня не любят кони,
Которые приходят пить к реке,
За то, что я любил себя на троне.
На троне и со скипетром в руке.
И я не мог понять, зачем я небу.
Ведь для знамений много есть светил.
Молился весь свой век вину и хлебу,
И ржанию расседланных кобыл.
Я жил раздвоенно, а значит, жил не зря.
Я встретил смерть, как свой последний стих.
Так совершенны небо и земля
И воинство прекрасное на них.
ПРАЗДНИК ИНТОКСИКАЦИИ
Если кучер, вот ты, не в салате удавыш.
Если кучер, вот ты, в киселе не утопыш.
То возьмешь и поедешь —
Жесток в горле внутренний крест.
Так кружатся опять в тамасическом том хороводе
Много черных невест
В тамасическом том огороде,
Где картофель слезой гнильцы по серым щекам,
Там, где репы глинистый ком
Призраком хронического гастрита,
Где какой-то турнепс или кротик какой-то,
Усик серый и шепчет: «Желтуха... Желтуха...»
Много черных кружились.
(Раз белое есть, то и черное есть).
Много черных невест
В тамасическом том огороде.
Там с татарского ига
Алкоголь пребывает в народе.
Здесь у вечного немца
Пена пивная стекает с усов.
Здесь Синьор Помидор,
Чтоб смешнее, стоит без трусов.
Здесь Жванецкий зарежет свинью.
Теплым салом и теплою кровью
Угощайте бесов с любовью.
Здесь плескают нефть по углам,
Чтоб не кончилась ночь.
Здесь не мать и не дочь,
Не отец и не брат.
Здесь в оконце смердит маскарад.
И щелкает эгокомпьютер.
Люцифер надырявит дырочек.
Чтоб потом в тишине,
Чтоб потом при Луне
Я спросил: «Слушай, брат,
Может, выйдем отсюда?»
А на кухне билась посуда...
Есть же снег. Есть же небо.
Есть же что-нибудь там.
Есть же дом и сосна.
Он, тяжелый от водки и лука,
Протянул свою дряблую руку.
ОЗОРНАЯ ПЕСНЯ
Дай мне наесться
Железнодорожной травы.
Повырастают у меня колеса,
Быстрым поездом я стану
И помчуся на Восток,
Где мой миленький живет.
И будут во мне ехать
Семеро грачей,
Семеро врачей,
Двадцать семь генетиков,
Сто восемь стукачей.
И будет кто-то один, без билета,
С поломанным сердцем
В груди молодой!
КАЖДЫЕ 40 СЕКУНД
(настоящее стихотворение)
Каждые 40 секунд
В нашей стране
Рождается психически неполноценный человек.
Этот факт слишком гол,
Чтобы ему называться поэзией...
Каждые 40 магических,
Электрических, вечных, бесконечных,
Грациозных, стрекозиных, смеющихся,
Живых, прозрачных иголочек-секунд
В нашей розово-бледной,
Орозовелой, ржавой с позолотой стране
Рождается — выходит из матового океана,
Выходит из-под готических сводов,
Возникает в кольцах дыма
Психически неполноценный человек
С тихой вечерне-неподвижной радостью
В глазах.
Я НЕ БУДУ
Я не буду гречневой кашей,
Которую съест пожилой.
Я не буду ни городом вашим,
Ни жилистой страшной травой.
Я не буду искать колени
Там, где коленей нет.
Я не буду просить ступеней
Там, где ступеней нет.
Я не буду смотреть медвежонком
Со стен и из разных углов.
Я не буду бежать собачонком.
Он хочет ласковых слов.
И не взяв ни Му-Му, ни денег,
Не купив билета к врачу,
Я сделаю свой понедельник.
Такой, какой захочу.
ИЮЛЬСКАЯ АНГИНА
Июль сонлив и крысоват.
Швейцар сонлив и лысоват.
И у него двухвосткой в горле ползает июльская ангина.
В руках — газета.
Пять минут — и отъезжает в Монсальват.
И тут же возвращается.
И много серых строчек
Течет, как много серых речек
Вдоль серых берегов.
А у швейцара сын недавно умер.
Пусти, швейцар. Я не могу обратно.
На улице июль и волкодав.
А я, как видишь, не похож на волка.
Неужто ты не понял по зубам?
Но сгорбленный швейцар опять отъехал.
В свои бесконечный тихий Монсальват...
КАРМЕН
Щелкунчик в нос.
Щелкунчик в ухо.
Щелкунчик серая старуха.
А у старухи злая дочь,
Которая не любит Дорз.
У дочери друзья — ханыги,
Которые кладут на книги.
Кладут с янтарными глазами
И молодыми волосами.
Так, причесав свою бородку,
Старуха уважает водку.
И дочь ее, идя на сходку,
В карман засовывает водку.
Друзья ее, как неформалы,
Пьют, елы-палы, что попалы.
Был день седьмой. Был вечер. Ночь.
Старуха и старухи дочь
И сонм невиданных ханыг
Затеяли искать занык.
Но водку выпили и выпили до капли:
И запах то ли псины,
То ли мокрой древесины.
Во лбу горит паскуда-неизвестность.
И, словно цаплин клюв,
В окне торчит древесность.
И был средь них один — ханыга Даниил.
Смиренье, кроткий нрав
Он с детства сохранил.
Поэтому ему кричат прямой наводкой:
«Послушай, Даниил, давай-ка, дуй за водкой».
Ах, в этом городе, беспечном и нелепом,
Ах, за прибацанною речечкой-рекой
Цыганы вольные живут в избушках. Хой!
Живут и в ус не дуют.
Бухлом они торгуют.
Упал наш Даниил в какое-то такси.
Давай, давай, браток.
Давай, браток, вези.
Туда, где что-то там
Трам-там «в пустых равнинах,
Ослы в перекидных корзинах,
Мужья и братья, жены, девы,
Крик, шум, цыганские напевы».
И ночь, глаза свои приблизив,
Застыла и уставилась в лицо.
Поможет Бог, поможет дева,
Поможет вед, поможет веда.
Поможет нам Великое Кольцо.
И не хотелось больше водки.
Хотелося одну Кармен.
АГДАМ
В город приехал Агдам на колесах.
Осень и мокрый табак в папиросах.
Очередь, очередь — долгая мама.
И вот объявляют — нету Агдама.
Осень вставляет, и город вставляет.
Город осенний Агдам оставляет.
А ночью увидел полковник Тарасов,
Что где-то за гробом есть черный Саратов.
ЗАМРИ
Замри, как тобольский оброчный мужик,
Лицом чист и бел и в блестящем пенсне.
И возле оврага, и в грязном пруду,
В березке сутулой, в дому и в весне.
Мне квасу, пацанчик, пшеничного хлеба,
Огурчиков малых на липовый стол.
Бакланить давай, толковать о посеве,
Червей выгонять, заговаривать пчел.
Замри же ты, сука, лукавою птицей,
Недостанным раком, слепым перепелом.
Замри же, как в граде Орле говорится,
Кукушкиным перелетом.
Замри же ты, падел, болотною дрянью.
И бабой, мещанкой такой — на поляне.
Стаканчик винца — на еловую ветку.
Ведь мы же с тобою не марияне.
Ведь мы же с тобою еще не родились.
И с папою мама еще не женились...
ЗЕМЛЯНАЯ ПЕСНЯ
Как земля, земля приедет.
Как земля, земля придет.
Как земля, земля наедет.
Как земля, земля убьет.
И она лежит нагая,
Рельсы пальцем теребя,
И с улыбкой попугая
Ждет шахтера, не любя.
Как шахтер в нее залезет.
Как шахтер в нее пройдет.
Изнутри живот прорежет,
Через дырочку уйдет.
Как возьмет шахтер бутылку
И редиску, колбасу,
Хлебца, перца, рюмку, вилку
И пойдет бухать в лесу.
Как шахтера арестуют
И на зону повезут.
Где сидят и не бунтуют,
Только мерзлый грунт сосут...
ХХХ
Поставь на столе
Водку, пиво «Балтика», сухое вино, шампанское.
Записывай в таблице: кто что выберет.
Иван Петрович — водку.
Сергей Семеныч — водку.
Сергей Сергеич — водку.
Лишь маленькая Маша — пиво «Балтика».
Записывай в таблице: кто что попросит на закуску.
Иван Петрович — селедку.
Сергей Семеныч — селедку.
Сергей Сергеич — селедку.
Лишь маленькая Маша — пирожок хоть с чем.
Записывай в таблице: кто как себя поведет.
Иван Петрович — как цапля.
Сергей Семеныч — как поползень.
Сергей Сергеич — как фазан.
Лишь маленькая Маша — как водяная курочка.
О ПРОБЛЕМАХ СЛЫШИМОСТИ
Сказали по радио «Прага»,
А мне послышалось «брага».
Вот, думаю, брагу уже стали рекламировать.
Что уж тут комментировать.
Сказали по радио «ива»,
А мне послышалось «пиво».
Вот, думаю, упомянут был пивной производитель.
Хотя сам я пива отнюдь не любитель.
Сказали по радио «пирс»,
А мне послышалось «спирт».
То ли уши заложены ватой,
То ли, правда, стал глуховатый.
НА ГРУДЬ ЕМУ САДИТСЯ ГОЛУБОК
(отчасти классическое)
На грудь ему садится голубок,
Но в голубка прицелился стрелок,
И ядовитый финик для стрелка
Уж держит темного царевича рука.
К руке же этой, злобу затая,
Ползет бесшумно влажная змея.
К змее, категоричен и суров,
Крадется тихо Павел — змеелов.
Но демон алкоголя — страшный Вова
Прогрыз, кривляясь, печень змеелова.
Бродячий ангелок под маковым плащом
Достал поганца огненным мечом.
7.30
7.30 утра и пора идти негодяйствовать.
Пора обижать некрасивый народ,
Употреблять наркотики и пьянствовать.
А ведь хочется — наоборот.
Хочется вот так вот влезть под одеяло,
Долго-долго под одеялом быть
И оттуда весь мир полюбить...
ПЕСНЯ ГРУППЫ «НОЛЬ»
Иду, курю, стучу протезом,
Лицо украшено все листовым железом,
Тащу я по асфальту длинный черный хвост
И жажду пива налакаться, как завхоз.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОХМЕЛЬЕ
(постдепрессионизм)
Милый друг, я дикий и пустой.
Милый друг, я тяжкий и усталый.
Плюнув парафинною слюной,
В зеркале увидел глаз свой алый.
Эх, пойду немного погулять.
Если повезет, то выпью пива.
За окном Природа — моя мать
Хочет обнимать меня игриво.
Я пойду наперекор судьбе,
Хладный пот стерев со лба рукой.
Безотраден путь. Ненастен день.
Подо мной асфальт течет рекою.
Облсуд мне преграждает путь.
Комары впиваются в ладони.
Смотрит старец в куртке из болоньи.
Непохмелившейся подобен он сове.
Зловещ и Адидас на голове.
Горючий яд таскал я в животе.
Миражи шевелились в высоте,
Вот на двенадцатой версте
Дом Дружбы русских и болгар
(Возле него пяток татар)...
Хочу сегодня видеть вновь
Туру меж скудных берегов.
Она течет с терпеньем христианским.
Я шел и представлял бокал с шампанским.
Бокал, бурлящий в блеске молнии кровавой.
И песни, и рыданья из груди.
Постиндустриализ Ам впереди.
Догмат единосущия в народе.
Невыразима удаль в сердце бродит.
За грань земли она меня уводит...
И возле средней 21-й школы
Я прочитал в глазах людей укоры...
Мой конь, по направленью к Оренбургу.
Туда, где Коля Рок-н-ролл рожден.
Мой конь, по направлению к Петербургу,
Где мокнет медный Всадник под дождем.
Мой конь, по направленью к магазину.
Давай скорее, не тяни резину.
Пока душа жива и верит в чудо,
Нас трудно взять и пуле, и петле.
К Центральному пришли мы, а оттуда
Рассеял нас Господь по всей Земле...
МОСТ ИЗ ПОРТВЕЙНА
Мост из портвейна
Через бурную речку.
Сладкий и крепкий.
Длиной метров двести.
На нем потеряли как-то овечку.
А Петр Петрович по нему добрался к невесте.
Мостостроители — крепкие парни
Из мостоотряда №29.
Хлопчики гарные,
В смысле, угарные.
Они жизненный процесс устаканили.
В темном леси рыся затараканили.
Шурин-мурин, верхотурин.
Воздушный шар надули
И в воздухе уснули.
Впереди — изжога.
Дальняя дорога.
ЛТП
и т.п.
ТРИ МЕСЯЦА БУХАЕТ ГОСУДАРСТВО
Три месяца бухает государство
Под незакрытый в кухне ржавый кран.
Как крылышко от липы, таракан
Кружится в воздухе, сверкая, как вольфрам.
В кормушке воробей Степанов
Лежит, раскинув лапы навсегда,
Касаясь трех великих океанов.
Глаза у государства — два болота.
И бабок — ек. И даже супа неохота.
Лед — в погреб. На поля — навоз.
Не хочется ни жить, ни папирос.
Сожмется в точку и уйдет сквозь дебри
В мигнувший на стене докембрий.
ПАРАД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ
Башлевая студентка Авербух
И два студента-младоосетина,
Какой-то пидор, зревший Святой Дух,
Какой-то Игорь, поступивший в «Рух»,
Достали примитивный бух
И скорченных селедок двух,
И хлеба, газводы и прочего всего.
Броня крепка и танки наши быстры.
И аквиля нон каптат мускас.
И айда бухать
Внутри у растопыренного мира.
Над миром,
Над его израненною кровлей детской
Летит-летит слепой орел.
Вокруг вянуще-розово-серого мира
Осколки бутылок, окурки и звездочки...
И первый был стакан.
Лимонноглазая студентка,
Танцуя внутренне канкан,
Дарила всем сафьян своей груди,
Лепя горбатого и видя впереди
Его с душою ватной, но с железным елдаком.
А Игорь хотел быть понят страной.
Но не был понят. И что ж?
По родной стране проходил стороной,
Как проходит косой в сракотан дождь.
А пидор хотел быть понят женой.
Но не был понят. И что ж?
По родной жене проходил стороной,
Как проходит прямой гвоздь.
А два студента-младоосетина
Не хотели быть поняты никем.
Что там мама сказала, конопли и кушай урюк.
Короче, дружба народов.
И был второй стакан.
Туманится студентка.
И по ее ступеням листья ветр несет.
И из ее дверей глядит на нас Сион.
Она томительна, и губы ее клейки.
И осетин ее за волосы берет.
Они куда-то устремляются вперед
Уже бесплотны, розовато-белы,
Уже за той чертой, где вещи так тягучи,
Мир зыбок и медов.
И кажется, что рядом
Из розовых и золотых снежинок
Смотрела Эпилепсия на них,
Как семь гипнозов родины незримой.
А Игорь и второй бедняга-осетин,
Как Робинзон и Пятница,
Полны природы дикой,
Сидят, базарят на своем на островке.
Уходят времена, народы и державы...
Сидят, базарят на своем на островке.
И третий был стакан.
Дождем летит студентка.
И мухою зудит.
И клумбою цветет.
Два осетина рвут с нее цветы.
И радуга поет на их клыках.
А Игорь выехал к границе небосклона
И звонко пал вдали от всех людей.
Четвертый был стакан.
Все пятеро сплелися
В косой прибор, таинственный и древний.
Посмотришь под одним углом —
Похож на пни.
Посмотришь под другим —
На сотни серых дупел.
А в дуплах кто?
Не души ль наших мертвых?
А то «На небе, говорят, на небе»...
А небо — это что?
А небо — это где?
Да, видел что-то там
Над нами голубое.
Все на него смотреть любили
И уверяли все, что это небо.
Но стали по нему ходить,
Как по газонам,
И затоптали вовсе это голубое.
И это голубое стало серым —
Косой прибор, таинственный и древний.
Косой, как дождь, который в сракотан.
Косой, как заяц на кладбищенском морозе.
Косой, как оба — и Линь Бяо и Конфуций.
Прибор для вызова энергетических существ.
И вот они идут на нас рядами.
На знамени их камень бел-горюч.
Идут в клубах тяжелых черно-синих туч.
И солнышки пищат на их погонах.
Безглазые их лица ближе, ближе...
(Эта картина удалась бы художнику
Константину Васильеву).
Идет вся, эх, Небесная Россия.
Под знаком дягиля
Хан-дерево цветет.
А на ветвях, на веточках его
Головок много шамаханских,
Головок много чемоданских,
Талтынских, рдынских, чепурынских...
Шибком шибает, гнет к земле-юрице
Гудящее из туч громово:
«Ом-м-м-м».
ХХХ
Ответь, воскрестьянин, ответь за раздельнопитание.
Ты будешь со мной — вот и все испытание.
Где интоксикация впадает в абстиненцию,
Как Тобол впадает в Иртыш,
На горизонте увидим с чекушкой ненца
И этот ненец покажет нам шиш.
Бьорк запишем во тьме незлобиво.
Скажи-ка, дядя, есть у нас пиво?
«Я лучше станцую вам, деточки,
Свой танец последней таблеточки».
Вашингтонская белочка сонная
С русской рыжей белкой впридачу
И какая-то птица зловонная
На могилке ведут передачу.
Будут румбу плясать, ча-ча-ча,
Познакомят с хорошей девушкой...
Но нет у них аминазинчика.
Но нет у них галопередольчика.
Но нет синенького скромного платочка.
Но нет у них ни глоточка.
Точка.
ХХХ
Купчик — серое пальто
С кошкой входит своей в рестарацию.
Недобро смотрит на него у входа мильтон:
Эх, даст сегодня он нам опять просраться!
Будет опять танцевать кукарачу,
А кошка его будет задом вертеть.
Будет купчик изображать верблюда и клячу
И петушком непристойно петь.
Пошвыряет на пол всю посуду,
Будет ходить на удалой голове.
Снимет штаны — селедку привяжет к уду
И заснет тихонько, как голубь в траве.
ЦЕННОСТЬ БАНЬКИ
Пампилов — капитан саперных войск,
Альберт — механик самоучка,
Петрович, что лицом как Жучка,
Сам плотник и механик
(Ему все щавель-дудка),
А также Ананьин внук из Великих Лук,
Изобретатель паро-атмосферной машины,
(Житье ему, что беловежскому зубру),
А также хромо-немой Вовака,
Рожденный, когда вавкнула Молчан-собака
(Огарыш, обойденыш, гольянский голь),
Сидели, бля, и пили алкоголь.
Пампилов говорит, мол, пойдемте, блин, в баньку.
Старый, бля, ворон мимо не каркнет.
Мол, мыло серо, да моет, блин, бело.
Пришли и — ломиком по оконцу.
Пропадай, мои животы.
Ну что, управимся до темноты?
Кому тереть, кому терту быть.
Зашли они в баньку
И давай там все топорами рубить.
За нашу любимую Родину
Коси малину, руби смородину.
Скачут по баньке и задом и передом.
И дело идет у них своим чередом...
А потом вообще подожгли эту баньку к Едрене-Фене
И отправились к Тамаре на пельмени.
Пельменей съели — вдарили по чаю.
Хлебают чай, пузырист и козырист.
Красны, как свекла.
ЗАПОЙ — 90
Запой, красавица, при мне.
А при тебе — твои обиды.
Со мною мрачный мой химизм.
С тобою светлый твой лиризм,
Когда тебя на свете нету.
Да разве и возможна ты
В том, что нагородили здесь
Лаплас с Ньютоном.
Из Генуи Вы шлете мне письмо.
Я выпил молока и пронесло
Опять какой-то бурой пеной.
(О, так похоже на болота Дагомеи,
Да только в Дагомее нет болот.)
Чтоб не болел живот, лег на живот.
И в стену я смотрю,
Лазурных глаз не потупляя.
Как бы сказал, должно быть, Гумилев.
Да шлепнули.
Но всех не перешлепать.
Поскольку все умрем...
О чем же я?
О женщине, о муке.
Глаза слезятся.
Не сомкнуть мне глаз.
И каждый из суставов воспалился.
У Вас был муж, но, падла, застрелился,
Когда имперский зашатался столп.
А он был камергер,
А вы — его кариатида.
И у него был 30 сантиметров.
Нет — 35.
Поэтому из ревности он мною был убит.
Поскольку всеми женщинами мира
Я должен обладать.
Да — должен.
Но смогу ли?
Вы знаете, как сложно в голове?
В ней много есть сосудов.
В ней много трубочек,
Несущих кровь и прану,
И всякую там лимфу и мозги.
И вот, когда смыкаются сосуды,
Бывает очень тяжело.
Вы уж поверьте старику.
В глаза приходит темнота.
И страшно.
И если есть Господь, то помоги.
И если нет, то тоже помоги,
Чтобы остался жив.
Ведь жизнь такая штука,
Что надо жить.
Не хочется, но надо.
Вернее, хочется, но только чтоб не зря.
БЫТЬ АЛКОГОЛИКОМ
Быть алкоголиком —
Это значит плясать, выпучив глаза,
С какими-то жилистыми бабами.
Быть алкоголиком —
Это значит подкладывать мертвых бабочек
В котлеты своему папе.
Быть алкоголиком —
Это значит постоянно портить воздух
И говорить «извини, братан!»
Быть алкоголиком —
Это значит быть посланным на кухню
Есть с прислугой вареную вермишель.
Вот что значит быть алкоголиком.
ХХХ
Мальчик-водка полюбил девочку-селедку.
А она его не полюбила.
Потому что я, говорит,
Украшена колечками лука,
Тонко нарезана
И на тарелочке.
А ты жидкий,
Маслянистый,
И очень много в тебе сивушных масел.
ХХХ
Амиго, не метите мне на косы.
Я ж руки вам открыл и вашу виту
Теперь я вижу розами увиту.
Я ж горло вам открыл ключом алмазным,
И вы теперь всегда, как Менатеп,
Как минотавр, как даже Минаков.
От вас мне нужно прямо пустяков:
Найдите мое сердце золотое.
О нем забыли Шеффилд-лейк и Юкатан.
А Маня, когда выпила стакан,
Все вспомнила и ножик свой точила.
И муха, муха ножками сучила.
Сучила, точно женщина Востока.
И запотели спектора, погасло око.
И перед ликом северного ветра,
Без ксивы и надежды на любовь,
Разъедутся все черные машины,
По красному дадут всем пирожку
И будет дождь из дождевых червей...
И снова будет мне не стыдно плакать,
Поскольку пустота в моей груди.
Пошлите Ильича, он завязал.
Тимьяна Бедного и всех других агентов.
Они пересекут сей сон тяжелый, нефтяной.
Их браунинг — он скажет, он подскажет.
Там Молотов, там Каганович мой
И спец по механическому делу
Бросают косточки и родина молчит.
И курят операторы эфира.
И дождь садится на кровать ко мне.
Не стыдно плакать. Это же во сне.
И годы, как безличны идолы прогресса,
Смотрели на меня без интереса.
В глазах катились черные машинки.
Душе хотелось рваться к алтарю.
САМОВАР
Пошел самовар погулять,
Кипятком на народ поплескать,
Внести в окружающее определенный, так сказать, дисбаланс,
Покуражиться, как архитектор, получивший аванс.
Идет и смотрит: очень забавная фишка —
Поскользнувшись, в грязь свалился мальчишка.
Правда, он до этого выпил пол-литра.
А задний фон — однообразная серенькая палитра.
Идет и смотрит: люди друг друга не любят,
Делают упор на визуальную часть дела.
Жестоко словами друг друга лупят.
А души у них — подобие тела.
На плоских кефирных фонах
Не найти симпатичного персонажа.
А вокруг старушки в некрасивых лифонах
И другие несущественные детали антуража.
Вздохнул самовар: «Низкобюджетный проект,
И нет талантливого разработчика,
Который вложил бы в социальное окружение душу,
Как в ствол гаубицы кошку Лушу.
Порвал бы кто экран и попал бы наружу
В другое измеренье, приготовясь совершать паренье.
И вот тут бы я на него кипяток!
Сарынь на кичку! Здравствуй, браток!»
ОГОНЬКИ
Огоньки, смотри, папаня.
Аня любит огонек.
Я хотел вчера ей сделать,
А в кармане спичек — ек.
В небе видел огонечек.
А мне снилось — там река.
Морду покажи, дружочек.
Ишь, на ней два огонька.
Огоньки, смотри, маманя,
У меня на животе.
Утром я захавал яда,
Долго плакал в темноте.
Собирался щупать ноги,
Недоразвитый дурак.
Из штанов достал корягу —
Меня бросили под танк.
Я теперь живу под танком.
Навещают все меня.
И в подарок мне приносят
Шаровидного огня.
ВЕТЕР
От мертвых ветер прилетел
И что-то рассказать хотел.
Не слышала душа-блудница.
Блеск хрусталей ей снова снится.
А ветер бесприютной птицей
Кружил над городом три дня.
Гроб видел, мальчика, коня.
Крестись, простись, не расставайся.
Снежком душистым умывайся
Да в путь-дорожку собирайся.
Да в путь-дорожку дальнюю,
Ко молочку миндальному.
СМЕРТЬ
Я смерть не находил
В центробежной силе,
В мускатном орехе, в голландском мыле.
В восхитительном океанском приливе
И в кислой-прекислой маленькой сливе.
Да вот же она!
Смерть в фате
Курила у мусорного бака в темноте.
Я заорал:
«Смерть, где твое жало?!»
Она заплакала и убежала.
ЗАЗАРА
(блатная песня)
Зазара — это пляска без штанов.
Спросил Семен Ильич у пацанов:
«Если гнома нету дома
За нос тянут управдома,
Кто из вас на подвиги готов?»
Тут выходит первый карапуз.
Из штанов вытаскивает туз.
Почему же у туза
Соловьиные глаза?
И в открытые двери
Животворная входит гроза.
И в Приобье анархия,
Самовластно, как храм, как пастух.
И в селеньях заклятье.
По дороге бредет Святой Дух.
Эх, зажмурился дом
И зажал свои рваные уши.
Йонимудра тоски.
И с Шипулей ушел домовой.
Хэ, зазара-зазара, возьмите билет до базара.
Эх, зазара-зазара. Аразаза-разаза. Ой.
Вот второй карапуз.
Он выходит, как замуж соседка.
Он красив и румян.
Он идет: многоног, многорук.
Кандидат голубиных наук
Ему строит козу, коммунизмы и глазки.
«Эй, холопы, то Шива идет!»
А холопы все опы да опы.
Все прихлопы одни да притопы.
Возле попы.
Третий был карапуз.
Чернолик, как король Свазиленда.
Грациозен, как пальма,
И красив, словно конь на картинке.
Эх, глаза-то его
Хороши, как лесистые страны,
Где бредут меж дерев
Духи, гномы, шипули, бараны,
Чуки, геки, чернухи, белухи,
Кандидаты, тонкухи, толстухи
И питомцы святого Назара.
Тут звучит над землею Зазара.
Чу — четвертый пошел
Карапуз в луннном свете.
Тонкогубые волцы
В пенсне с золотым ободочком
Пью коктейли свои. Файф-о-клок.
В небе — туз и Луна.
На столе — пен и пенсил.
И отрубленный пенис в углу —
Красный чум преподобного Лу.
Эй, снимайте штаны.
То звучит озорная Зазара.
Но Семен-то Ильич взял и помер
В прошлом году.
Пацаны — кто в тюрьме, кто в горкоме.
Кто в Небесной России
С чефиром в руке
И с соколом в третьем глазу.
А Россия, ты вся из заборов.
Я иду — все забор и забор...
ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА
Черепаха вздыхает в груди.
В горле злая ставрида сидит.
В животе распластался орел.
В легких дремлют тигрица и вол.
На пупе виден дух неподвижного предка.
За стеною, кряхтя, в телевизор влезает соседка.
ХХХ
Выпью я бутылку водки.
Выйду во поле плясать.
Только суслик запоздалый
Станет глазками моргать.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ИДЕТ ДО ПУПА
ХХХ
Детство золотое в сломанных часах,
В глазике потухшем, в спиленных лесах.
Сломанный учитель с глобусом во лбу,
Что же Вы молчите про мою судьбу?
Я хочу, как ангел. Ангел смотрит вниз,
Положив за щеку каменный ирис...
ЧЕГО ТЕБЕ НАДОБНО, СТАРЧИК?
О, хлеб тебя не насыщает,
Каким диавол угощает.
Все тварное тебя прельщает,
Хоть дней влеченье пресыщает.
Чего тебе надобно, старчик?
Чего тебе надобно?
Умрешь, не пробудившись,
Когда светлонебесны
Придут за тобой
Чувственный сон твой прервать,
Мысленный сон твой прервать,
Что-то мелькнет на долю секунды.
Мальчик, собака, берег реки...
Окунь, как ангел.
Окунь в очках.
Мама в очках...
До свиданья.
Чего тебе надобно, старчик?
Чего тебе надобно?
Старчик ответил:
«Сям-пересям,
Где море небесно
Все реки приемлет в себя,
Хочу быть уверен в невидимом я.
Хочу себя зреть
В этих водах небесных, текущих чирадно-выранто.
Ах, мощи хладны всегда.
Мощи хладны, чирандо-выранто.
Черна лутошка стоит без коры,
Не нарушив закона.
Бел мой правило, как сахар,
А я-то нарушил закон.
Жил понапрасну и в небо взлечу понапрасну.
Череп мой псы отнесут
В высокую конопель.
Ах, вы простите, поля,
Звери и добрые люди,
Что не крещен, не прощен,
В смерти всегда пребывал,
Что не видал я того,
Кто в тихий свет облачен...»
Старчик, ты, старчик,
Не знать тебе вод тех небесных.
Правую руку твою держит враг видим.
Левую руку твою — враг невидим.
Не для тебя он придет, Трисолнечный свет.
Не для тебя дня и ночи Владыка
Откроет себя.
Закроют твой разум, как черную книгу.
И вниз твоя тень полетит:
В холод и мрак.
РАБОТАЯ НА ШАМБАЛУ
Когорту немых и китообразных
Оставляю за границей сна.
Погранец с волчьей мордой поет итальянским тенором.
Открываю глаза — октябрь, а думал — весна.
Скоро 10 лет работы на Шамбалу.
Бужу сыновей, кормлю их вареными яйцами.
Они, наверное, не вырастут вегетарьянцами.
А самому мне яйца не нравятся.
Увижу их и мерещатся какие-то двуутробные личинки.
Скоро 10 лет работы на Шамбалу.
Сыновья уходят в школу, иду работать в огород.
Скоро октябрь кончится, а астры еще стоят.
На все они забили, все им до одного места.
Они же не антилопы, чтоб фехтовать рогами.
Скоро 10 лет работы на Шамбалу.
Кстати, про одно место. Смотрю на залупу
И нахожу в ней признаки явного уменьшения.
Потом долго-долго смотрю в бочку с водой,
Силясь увидеть свое отражение.
Я — молодой волк,
Поджимаю хвост, подставляю вам горло.
Я — слабая чайка,
Подставляю вам незащищенный затылок.
Завелися в кармане тараканчики-кенгуру.
Перед сном завариваю воняй-траву.
Предаюсь очищающей аскезе.
Скоро 10 лет работы на Шамбалу.
ДЕДУШКА
Там возникали буквы водяные
На серой непроснувшейся воде.
Магометане, мертвецы родные
У деда шевелились в бороде.
Господь поет, а мы его не слышим.
Мы буквы земляные пальцем пишем.
И пальцем трем мы первоэлемент,
Как будто воробьиный экскремент.
Эх, дедушка, ты высунься в оконце.
Скажи, ты за Луну или за Солнце?
Сказал: конечно, милый, за Луну,
А значит, за Советскую страну.
НЕУТЕШНАЯ МАМА
И он вошел с зимой на морде,
И вздрогнул старый Фрейд в комоде.
Глаза смотрели вполнакала.
Слюна с клыков его стекала.
Послушай, друг, зачем все это?
Зачем нам смена тьмы и света?
Творец, нам явленный как слово,
И ритм как сущего основа?
А мы живем, живем неспешно...
И только мама неутешна.
Я вижу девушку во сне.
Она бредет под небосклоном
И опускается на снег,
На тихий снег хрустальным лоном.
А мама плачет надо мной,
И в небе проезжает поезд.
Зачем? Зачем? Скажи, зачем?
Глаза смотрели вполнакала.
Мой друг сидел космат и нем.
Слюна с клыков его стекала.
К ТРИДЦАТИТРЕХЛЕТИЮ ПРОЧТЕНИЯ МНОЙ СКАЗКИ П.П.ЕРШОВА «КОНЕК-ГОРБУНОК»
Сказку Петра Павловича Ершова
Я прочел в шестилетнем возрасте.
Это была первая прочитанная мной книга.
Я прочитал ее раз 20 или 30 подряд.
Долгое время знал ее наизусть.
Теперь позабыл.
(Помню до слов
«Вот как стало лишь смеркаться...»)
Это происходило в деревне Воронино.
Раньше я знал в этой деревне каждый дом,
Каждое дерево. Теперь позабыл.
Я же не был здесь больше 20-ти лет.
Тогда был жив мой дедушка Дмитрий Андреевич,
Увлекавший меня бесплодными фантазиями.
Говоривший
О направлении к точкам видимого горизонта
Относительно стран света,
Называемом румбом,
О полете на Луну
(Летели мы с дедушкой,
Летели какие-то плоские и неживые,
Как какие-то, что ли, равновеликие фигуры).
А бабушка говорила:
«Не забивай ребенку голову».
Почему же люди по-прежнему умирают?
Христос победил смерть
И лишил тем диавола его оружия.
МОЙ ДЕДУШКА
Мой дедушка идет по Петербургу.
Я Петербург не видел никогда.
Небрежно держит он в кармане руку.
Глаза его, как невская вода.
И, как и я, он безнадежно болен.
Романтик, грешник, соучастник зла.
Доволен будущим, судьбой своей доволен.
И в нем желанье искры и крыла.
Язык-павлин его пока что тешит.
Грядет эпоха аббревиатур.
Сонеты Малларме непрочны, как подснежник,
И все страшней невидимый Сатурн.
Смотри, как уплотнилась атмосфера.
Надолго хватит ли речей и скрипачей?
И разливается неведомая вера,
Как шторм астрохимических лучей.
О, будь благословен потомок мой — космограф,
Который цифрой объяснит наш путь.
И тьмы неслыханной энтузиаст-фотограф,
Сумевший разглядеть хоть что-нибудь.
А дедушка идет по Петербургу
Беззвучно, как магнитная волна.
Небрежно держит он в кармане руку,
Но начинаются иные времена.
И там, где нам позволят снять личину,
Где все равно — что радость ли, что злость,
Мы вспомним нашу общую кончину
И ночи, ночи белые, как кость.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(опыт мистического оптимизма)
Линия жизни идет до пупа.
Смеется прохожий.
Смеется толпа.
Линия жизни ползет по ноге
И исчезает в моем сапоге.
На облаке сидя, смеется Добрыня.
И рухнула крымского хана пердыня.
Шесть тысяч геологов ходят по кругу
И сообщают чего-то друг другу.
На радость народу,
На радость отчизне
Линия жизни идет к коммунизне.
ЗАВТРА
Художник-глазник по глазам меня мажет,
Как мажет купейный цыпленок. И даже
Как мажут плакаты, как мажут котлеты.
Как мажут свинцово и страшно газеты.
Но — завтра.
Оно наступает, как я на осколок бутылки.
Но — завтра
Безвидно и пусто.
Так подо льдом задыхаются окна.
На всех его хватит, священного холода.
Чего же просить?
На снегу хризантему?
Чтоб правило ночью иное светило?
Ах, в небесах незнакомый плясун
И у мурзилок соски обморожены.
НЕПОЛАДКИ ВНЕШНЕГО КОНТУРА
В царство нужды и разврата
На шишкоплане влетел,
Кто в защищение брата
Мир сделать лучше хотел.
И на разбитых мечтаньях
Черные думы гнездятся.
А на поруганных упованьях
Безжалостны думы мостятся.
Молодец сидит и мысли посылает.
А ответ, он со временем всплывает.
Почему человек являет геройство
И левой ножкою своею попирает лунный серп,
А мир проявляет другое свойство
И к человеческому геройству слеп?
Почему в душе благородные порывы,
А на деле выходят обломы и обрывы?
Почему наше небо лишь место между бровями?
И приходит ответ, жужжащий, как Эм,
В это место между бровями,
То есть в небо, где скачут планетки-шалуньи,
Где не ждет могилки, огонек горит,
Где идеи обретают свою зримость,
Где душа смотрит в свою неповторимость,
Короче говоря, в это место между бровями,
Которое некто раздвигает, как ноги...
И приходит ответ, что, дескать,
Неполадки внешнего контура.
Дескать, они во всем виноваты.
Надо же!
Или тот внешний контур,
Где кружится зеленый поток христианства,
Во льдах, на злых глазах,
У России трепещут 12 ее лепестков
И в ясной вышине страж не дремлет...
Или тот внешний контур,
Где все существа так лихи —
С перунами в волосах.
Достигают объекта, попирая святыни,
Энергетику гасят безжалостно,
Над законами жизни смеются,
Будто у них свой закон...
Или тот внешний контур,
Где семь Божьих Духов
Крутят во тьме перламутровый шар —
Или тот внешний контур,
Где живые и мертвые переплелись,
Где кажет всем истукан
Перловую кашу зубов,
Скрепя ржавыми веками,
Забавляясь человеками...
Или тот внешний контур —
Кладбище мыслеформ,
По которому, словно макаки,
Скачут неистолкованные знаки,
Вызывая гуденье в шишковидной железе...
Эх ты, грудь же молодая.
Эх ты, жизнь же трудовая.
Эх, незыблема краса.
Эх, ночные голоса.
Эх, держите жезл рукой.
Эх, рутнок, рутнок, кукой.
Эх, пронесть, не оступиться.
Только в Боге раствориться.
ХХХ
Да, снег придет
И прыгнет на погоны,
На черные железные кусты,
Холодные безлюдные вагоны.
Да, снег придет,
И девочка растает,
И сверху колокол невидим упадет.
Начальник спит. Диспетчер водку пьет.
Лишь плановой по воздуху летает.
ДЕКАБРЬ
(заметки натуралиста)
Мой милый, мой декабрь — боец скота.
Мыши вьют гнезда наверху копен —
Декабрь будет долгим и продолжительным.
Снег после выпадения волос
Останется надолго на земле.
Лебедь несет на носу снег
(«Лебедь» — партийная кличка).
Поздний грибок — поздний снежок.
(Трихопол поднимают в цене.)
Декабрьский гром — к осадкам.
Лежит Румыния,
И вытекает из-под нее струйка крови...
ПЕСНЯ СТАРОГО КУКАНЩИКА
Есть куканы безжалостны, как пламя,
Когда, движенье плавное прервав,
Посуду бьют, простреливают знамя
И метрдотеля запирают в шкаф.
И вот ведут, ведут на кукен-кракен,
Подтыкивая вилкой, чтоб быстрей.
И создается безымянный ракен,
Как архетип эпохи скоростей.
И вот ведут, ведут на каркалыгу
По городу ночному без трусов.
Ребенок спит. Масон читает книгу.
И над страной созвездие Весов.
XXX*
У кого елда красней — у того душа честней.
У кого кутак огромен — тот порядочен и скромен.
У кого блестит залупа, на того сердиться глупо.
А кто елдою вяловат, тот и душою подловат...
* написано в жанре фэнтази.
ОДА НА ПРИШЕСТВИЕ ВЕСНЫ
«Хайль Гитлер!» — говорит Зима,
Достав свой черный парабеллум,
И мертвописцы без ума
Рисуют белое на белом.
Вьюги злые, ах, вьюги злые.
Бросят бомбочку и — куку.
Вьюги злые, ах, вьюги злые
Утопили в снегах Баку.
Утопили в снегах Одессу,
Где душа моя ест виноград.
Утопили в снегах Москвессу,
Где душа моя ест все подряд.
Но Весна говорит: «А ну-ка,
Руки вверх, распроклятая сука!»
И Зима, трепеща всем телом,
В рот сует себе свой парабеллум.
ХХХ
Анекдот, анекдот от железных дорог,
От степей и могильных холмов.
Витязь сел на крыльцо,
Ангел сел на лицо.
Семьянин по дорожке пошел.
Он приходит в свой дом
И находит жену.
А жена ни жива-ни мертва.
А любовник ее, словно моль и пиджак,
Белобрысый, дремлет в шкафу.
Вот по комнате тихо прошел семьянин
И тихонько вышел в окно.
И по воздуху в небо тихо пошел.
И все дальше идет и идет...
В МАРТЕ МЕСЯЦЕ
Пошел в марте месяце погулять с собакой.
Увидел в небе радугу в форме свастики.
Смотрел на снег. Снег — дело живое, не мертвое.
В нем елозят снежные головастики.
Великий Пост, котлет не хочется.
А хочется в руке подержать какую-нибудь лилию.
Утром в зеркале я стал похож на кочета.
Каждый день понемногу читаю Библию.
Не летит ни козявочки, ни самолетика.
Поднял голову вверх. Говорю: «Господи!»
И не знаю, что еще сказать.
Помолчали с Господом, постояли.
Я — здесь. Он — там.
Разошлись по домам.
За то, что не пью полтора года,
Каждый день мне — кофе, орехов, торту.
А снег растает — так свозят в цирк
И купят манчестеру на кофту...
ЖЕЛАНИЕ
Я одену красные трусы,
Я вскочу на белого коня —
И промчусь вдоль лесополосы
Так, что хрен поймаете меня!
Прискачу я в тихий городок.
Меж домами вьются шептуны.
Здесь, быть может, счастие найду.
САНСАРА, СКРУЧЕННАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ
Руке дают приказ на Запад.
Ноге — в другую сторону.
А Глаз, как Берия убитый, умчался с воем на Луну.
Нос стал чернильницею в школе.
Катает ветер Уши в поле.
А из Бровей и из Волос девчонки делают стрекоз.
Уже давно сидят Ресницы —
И все за переход границы.
Вчера расстрелян Экскремент,
Как самый вредный элемент.
В бочонок был забит Живот
И выброшен на волю вод.
Свободу — Сердцу.
А для Письки — лишенье права переписки.
УДЮДЯ БИБИКОМ
Я — Удюдя Бибиком.
Я родился дураком.
(Не хватает масла в голове.)
Математика — не знаю.
Физика — не понимаю.
Не понимаю, почему так жалко голубей в траве.
Я всегда как истеричка.
Кутачок мой, словно спичка.
И над этим кутачком
Есть волосики пучком.
Сам я лысый, словно грелка.
И сопливый, словно белка.
Культуризм не для меня —
Ручки как у муравья.
Несмотря на жалкий вид
Знаю —
Бог меня простит.
ЛЕТО
Цветок картофеля он нюхал.
Он Муравья следил в траве.
А электрод пищал в кудрявой голове.
РАЗЛИЧИ НЕЯРКИЙ СВЕТ
Различи неяркий свет,
Наполняющий предметы.
Сколько горя, сколько бед
Мнят в предметах экзегеты.
Я и сам из их числа.
Гибель в веточке почую.
Кровью ягода кисла.
В доме, как в гробу, ночую.
Ну а если о словах —
Бездна, липок страх, разруха.
Цапфа, цанга, шлиф и шлих.
Шприц, познаемый вглубь уха.
Но в предметах есть и то,
Что прельщает нас и дразнит.
Пусть не радость, пусть не праздник:
Перчик, огонек, энзимчик,
Внутренний минигрузинчик.
Но в предметах есть и то,
Что несет нам сон и тяжесть,
Сытую отрыжку, вялость
И свиную тупизну,
Толстых ляжек тяжесть, вялость,
Сытость и зевок ко сну,
И приятную усталость,
Погруженность в теплоту, темноту и отупенье
(И, наверно, в Абсолют,
Если про него не врут).
Кроме этого всего
Есть в предметах свет неяркий.
Видеть научись его.
ОНИ — ОТ КАИНА
(обличенье в стихах)
Они — от Каина. А мы?
А мы — от Авеля.
И потому едим салат из щавеля.
А они — баранину с курагой
И похлебку с козлиной ногой.
Мы пьем «Саяны» с углекислым газом.
Они — детей пугают противогазом.
Мы пьем морковно-фруктовые соки.
Они по видео смотрят «Рокки»,
Мы любим орехи и яблоки в слойке.
Они цемент воруют на стройке.
Мы обожаем картофельные пампушки.
Они спичку в зад вставляют лягушке.
Мы — цветную капусту в кляре.
Они — девок щипают в баре.
Мы покупаем хлебобулочные изделия.
Они покупают одеколон с похмелия.
Мы выпекаем блинчики с медом.
Они смеются над партией и народом.
Мы готовим фруктовое пюре.
Они ловят Би-Би-Си в своей конуре.
На нашем окошке — зелень укропа.
У них, что ни слово, то «жопа».
Нам ближе центр, а им — окраина.
Они от Каина, друзья. Они от Каина.
КАК ПОРТИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ КУШАНЬЯ
Бросьте в коктейль «Золушка»
Немного говнеца.
Насыпьте в блинчики с творогом
Немного цемента.
Выложите яблочную шарлотку
На солдатские портянки
И засуньте медовые пряники
В задницу повару.
Спасибо до свидания
За вкусное питание.
Спасибо товарищу Исааку,
А кто готовил —
Тому бисквит-рулет в сраку.
БУНИН
Настоящая фамилия Ивана Бунина была Джамбинов.
Он шел по дороге в тюрьму смерти и часто шел без штанов.
Напьется, пишет смешные стихи, как пежат пингвинов,
А то про убаюканность шагом конным сочинит для пацанов.
А если привяжется тля какая:
«Как рассматривать ваши произведения?»
Неожиданно может заплакать, роняя алмазы крупных слез.
И молвит: «Восхождение — это паденье,
Падение вниз, сука я, не матрос!»
ХХХ
Иди, скажи: «Я обитатель моря», —
И протяни к ним серую ладонь.
Меня не называйте, ветру вторя,
Как тех, кто срублены и брошены в огонь.
Иди, скажи: «Я обитатель неба.
И что мне дождь, когда я над дождем».
Ответят — здравствуй, обитатель гроба.
Тебя уже заждался чернозем.
Тогда скажи: «Нигде не обитаю.
Прописки нет и документов нет.
Я просто здесь случайно пролетаю.
Храни вас, Господи, товарищи. Привет!»
ОБИТАТЕЛЬ ДОЖДЯ
Обитатель дождя
Пробирался средь мокрых ветвей
Весь закутанный в плащ до бровей.
А в кармане комом сырым стали разного рода квитанции.
Все вокруг намокает, все вокруг промокает,
Кроме безукоризненной репутации.
Все вокруг намокает, все вокруг промокает,
И под яблоней мокрой кот промокший икает...
ХХХ
Глаза мои — Бивис и Батхед, прыская и хрюкая,
Скакали по лицу.
А губки будто скованы узкими брюками.
И портили все лицо мне — молодцу...
КАК Я СТАЛ ТЕЛЕПУЗИКОМ
В Латинском квартале вертляво ходил
Я либеральным картавым французиком.
А вечером я телевизор включил
И понял — я стал телепузиком.
Теперь каждый день буду другом детей
Кривляться для них на экране.
И свой постыдный лиловый пузень
Показывать людям в рекламе.
Старушка в меня тычет грязным перстом:
«Смотрите, какая уродина!»
А перед ней на столе кот с хвостом,
Сомнительная бутербродина.
Старушку на кладбище тихо ведут.
И — дождичек вечером мглистым.
А я вам с экрана показывал уд
Рогатым мондиалистом.
КРАСОТА ПАСЕТ МИР
Большая красота Мир ласково пасет.
А жилистый красот ей кваса жбан несет.
A миpa между тем валялась на мосту.
А мира между тем смотрела в пустоту.
Тогда как Мирин мир взирал на красоту.
Итак — инь иню рознь.
Бывает всякий инь.
Ленивый, глупый, злой...
То ини для разинь.
Но если ты, мой друг, приличный человек,
То инь себе найди такой, чтобы навек.
Навек — а дальше смерть.
Но что такое смерть?
Стена, бездна, дверца?
Если дверца, то куда?
Что, если там пустота?
Так в пустоту все время Мира смотрит,
Пока красота Мир пасет.
Но, если так, что значит красота
И почему ее так превозносят люди?
Сосуд ли то, в котором пустота
Иль пустота и даже не в сосуде?
ОН УМИРАЕТ
Он, мама, видишь ли, он умирает.
Глазик Москвы наливается кровью.
Глазик Архангельска радугой проткнут.
И то, что от Бодайбо до Алдана,
Больше уже не стоит.
Девка реальности будет не рада.
Объективной реальности, нам в ощущениях данной.
Она по ресницам проводит своим язычком.
Она лижет и царство свое открывает меж ног.
Вагинальная влажная черная бездна.
Иллюзорно неисчерпаемая черная бездна.
В аджне Вологды пляшет в эфире горбат, многоног...
Но то, что от Бодайбо до Алдана,
Больше уже не стоит.
Ландыши, изморозь, ему в ухе шевелит она язычком.
Я хотел бы ему кундалини поднять
С берегов Ангары.
Чтоб в разрывах тумана двигалось, точно поезд.
Через Красноярск шестилепестковый
(В Енисее хохочет макара).
Через десятилепестковый Аумск,
Где поезд снится в огне.
Через Тюмени моей анахату.
(Тюмень только воздух, и воздух, и воздух.)
Через горло Казани...
Когда-нибудь будет таинственный Вильнюс,
Где ставка Атмана,
Который сварит яйцо,
Отделит белок от желтка
И, смеясь, говорит
О бесконечном вампиризме вагины.
Мама, то, что от Бодайбо до Алдана,
Больше уже не стоит.
БОРМОТАВР
Из Бормотаврии любимой,
Из Бормотаврии далекой,
Из Бормотаврии родной
Шел бормотавр куда глаза глядят.
Но стали странности различные
Ему встречаться на пути.
То эффективная форма координации.
То руководство головной первичной партийной организации.
А бормотавр смотрел на небо.
А бормотавр свою долдонил мантру.
Но многостранности в обилии встречались,
Сознаньем бормотавра отмечались.
То воспитание кадров
В духе соблюдения государственных интересов.
То утверждение строжайшего порядка
Во всем деле руководства процессом коллективного труда.
Да-да. Всеобъемлем характер контроля.
Он постоянен. Oн оперативен.
Его постоянство и оперативность —
Непременное условие его эффективности.
ГОТОВНОСТЬ БЫТЬ УЯЗВИМЫМ
Готовность быть уязвимым.
И соглашаться: «Не Бог.
Не Бог, а, наверное, интуиция».
И, сидя за чаем, кивать:
«Да, все-таки что-то есть.
Что-то такое неясное.
Что-то такое невнятное...»
Готовность быть уязвимым,
Ласковым и химичным.
А ночью и в самолете
Просить у Бога прощенья.
МОЛОЧНЫЙ ОБМОРОК ТВОЕЙ ПУСТОЙ ВСЕЛЕННОЙ
Молочный обморок
Твоей пустой Вселенной,
Где будет лишь предчувствие вещей
И горечь от предчувствия рожденья,
Так девочка порой не хочет пробужденья,
Растаяв в облаках. И воронье,
Смеясь, клубится в волосах ее.
Ах, мне не надо северной дороги,
Останкинской тоски и мертвых деревень...
Ах, мне не надо глины, формы, пробужденья.
О, горечь от предчувствия рожденья!
Неотвратимо — от бесформья к форме.
Неотвратимо — к постадамовой культуре,
Где перекладинами время и пространство.
Где Юг и Север, Запад и Восток.
И где конкретность рук моих и ног.
Так, мир покинув Твой,
Натужный я, живой,
Я открываю оба своих глаза
Внутри утробы иль противогаза...
Декабр, кефирь, феврарская дрессура,
Касотки крабаре дрессурен и трибун,
Мундирщики, сусальщики, сосальщики
Всех копошевен. И гопотный дух разит.
И рыжая обструганная девка,
Раздвинув ноги, в комнате висит.
И хриплая толстуха
Кричит кому-то в ухо:
«Лисичка-сестричка, а лисичка-сестричка?»
Вот лисичке отдельное.
Вот лисичке особое.
Вот лисичке противное.
Вот лисичке больное.
Вот лисичке грязное белье постельное.
Вот лисичке весь копошащийся клубок...
Однако все послушней, все послушней мир вещей.
Когда-нибудь и покориться бы он смог,
Но время умирать.
А жаль.
Мне так захочется разрезать баклажан.
Минтаю мерзлому поджарить его спинку
И встретить женщину, как швейную машинку...
Куда иду я после жизни тленной?
В молочный обморок Твоей пустой Вселенной.
КАРДИОЦЕНТРИЗМ
У моря кардиовалена
Он преклонил свои колена.
Прилив. Слюна.
И звезды в горькой той слюне.
Его босые двойники и крабы шепчут в тишине.
Уже не будет больше страха.
И из разомкнутой груди
Выходят юноши, и знамя впереди.
Выходят щегольские звери и светлые учителя.
Выходит храм, выходит хохот.
Выходит бобр, выходит похоть.
Все то, что тайно в сердце обитало.
ХХХ
Токсин усталости — кенотоксин
Кровь разнесла опять по организму.
Ну, скушай аспирин.
Ну, сделай клизму.
Ну, поброди по улице без дела.
Ты, главное, дай отдых клеткам тела.
А можно просто бухнуться в кровать
И спать, и спать, и спать, и спать...
Так из стены невнятен шепоток,
И метеоров маленький поток,
Поток чуть зримых крохотных корпускул...
Не видно ничего. Расслаблен каждый мускул.
И только в моем темном животе
Орел с усмешкой реет в высоте.
ГОРОДА
...и, обретя поводырей,
В горсти крыжовник
И объедки прежних родин,
Они заходят ночью в города,
Но двери и влагалища забиты
И у старух недвижных
Из ушей растет трава,
Ну а друзья доподлинно неясны.
А у бессонницы все узелки в глазах,
Но губы у бессонницы прекрасны.
Хотят читать планеты, как слова.
Хотят лечить чернильными руками.
Хотят украсить старую и драную природу.
Хотят являться в небесах народу.
Поводыри, однако, в петли превратились.
В горсти же больше нету ничего.
И не старух и не друзей напрасных...
Бессоница, губами замахав,
Как птица, между глаз Моих повисла.
Я — не они.
И я совсем не город.
И ни людей во мне нет,
Ни домов.
Лишь мерный бесконечный свет...
Но хриплым криком
Рвет его петух.
В моих дверях стоят поводыри.
В горсти крыжовник
И объедки прежних родин.
РЕКА
Река размыкает мосты
И ложится со мною в кровать,
Теченье холодных ног с трудом поворачивая вспять.
Все дальше, дальше на юг.
И дремлет в углу паук.
И лбами колотит о берег
Слепых от фенола щук.
ПЛОХО
Плохо мне, бабушка, плохо.
Прими на здоровье болотное.
Оно такое родное. Такое плохое и рвотное.
Я мальчиком был неплохим, плохим, занимался рыбалкой,
Но мог быть груздем сухим, автомобилем и галкой,
Глазами и жухлой травой, глазами и рваной бумагой.
Взаправду кому рассказать, наверно, получится плохо.
Закончилась наша эпоха, где нашего нет ничего.
И плохо сказать: «Я еще о-го-го»
И плохо совсем не сказать.
И плохо: не бабушка — только кровать
Меня заключила в объятья,
Ласково взяв за запястья.
ИЗ СТЕН ЛЕЗУТ ГВОЗДИ
Когда была защита снята,
Я ел соленый теплый суп.
Кусочек сморщенный моркови —
Мой заболевший дельфиненок.
Из стен бордовых лезут гвозди,
И у меня тревожный пульс.
А у меня есть тоже море
На самой смутной из планет.
А у меня есть тоже горе —
Привычный гнет плохих примет.
Смотри, смотри, как лезут гвозди.
Не будь округлым, словно холм.
Не будь кротом, не будь министром.
Ты, брат, нe ветер в поле чистом.
Ты — серый молчаливый лох.
Пусть этот звук тебя разбудит.
Бог не простит и не осудит.
ТЕМПЕРАТУРА
(Дню Победы посвящается)
Телу жарко, телу клейко.
У малиновой реки
Мне клыки из нержавейки
Показали рыбаки.
Мама мне приносит морса.
Появился на крыльце
Человек из Гельгсинфорса
С паучочком на лице.
Позову я кошку Муру.
Пусть мне песенку споет.
Я собью температуру,
Как фашистский самолет.
ХХХ
Дефектный, эмоционально ограниченный,
Гляжу в окно и вижу снегопад,
И глупо улыбаюсь невпопад,
Как на посту веселый пограничник.
О, где мои златые дни...
О, где мои златые дни?
Унес поток их всяческой мудни.
Я помню — золотой денек
Сиял, как самоварный бок.
А в поезде ехал — спрашивали лесорубы и хлеборобы:
«У вас золото какой пробы?»
А один раз попался попутчик,
Какой-то, скорее всего, валютчик.
Он за дни за мои предлагал валюту
Или какую-то беззубую Люду.
Да я и так ему мог отдать.
До хера было этого добра:
Дней из чистого золота
И ночей из серебра.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Если гладить собаку по брюху
Она улыбаться будет,
Словно читает книгу доктора Раймонда Моуди.
(Вернее, Раймонда Муди,
Что для русского уха звучит немного похабно.)
Доктор верхних светлых миров,
Весь мохнатый от волосов,
Раймонд Кутакович Муди
Лежит, как калоша на блюде.
И знают добрые люди:
Есть она — жизнь после жизни.
ХХХ
Уж скоро меня вновь найдут в капусте
И от кочана не отличат,
Ножом порубят и заквасят
И оставят в банке трехлитровой лежать.
Мужики откроют банку, пожуют.
Скажут: что-то, падла, хренку маловато.
А хренку хорошо побольше, когда поддают.
А я вам, гады, нарочно буду как вата.
Чтобы выплюнули меня изо рта
И выкинули в снег,
Где мне и будет красота.
Правда, могут выбросить и в унитаз.
Ну уж это — как Господь даст.
ХХХ
Жив ли Колька-ширмач
Ты спроси у молдавского ветра.
Ветер, ветер, ответь!
Хотим макли с тобой навести.
Там пахан отдыхает
В своей шляпе из нежного фетра.
А веселье начнется, наверное, после шести.
Сделал домик из водки.
Вилкой санный след проложил.
Как над нашим салатом мрачный ворон кружил.
В холодце я ножом прорываю великий канал.
Сделал поезд из хлеба.
И он по столу поканал.
А оливка на вилке играя...
Ах ты, детка моя дорогая!
Ты моя дорогая мадам.
Привет Одессе, розовым садам.
ХХХ
Любовь между птицей и птицей
Перед солнечной, ветреной Пасхой.
Над весенней, грязной водицей.
Над весенней, грязной водицей
Клюв бинтует крылатый мальчик.
Над весенней, грязной водицей
Из окна глядит Ариманчик.
ХХХ
Все мирили Бельгию с Голландией,
Когда Австралия и Индия схватили маленький Цейлон.
Индия, приблизив свой зловещий Мандурай,
Подтягивая черную Катаку по берегу Бенгальского залива,
Сказала: «Ах, Цейлон. Ах, маленькая слива».
Австралия воткнула мыс Йорк
В округлое цейлонское Коломбо...
Но закричал Непал
И вгрызся Гималаями в загривок Индостана.
И посинел Бомбей и захрипел Мадрас.
И закатился Дели черный глаз.
И стало море Аравийское краснеть, краснеть...
Разжались пальцы Индии на горлышке Цейлона.
Но у Цейлона уже порвано Коломбо.
Уж мыс Йорк его проткнул насквозь,
Как ржавый гвоздь.
А Турция с Ираном
Все хохотали, взявшись за бока.
ВЕСНА ИДЕТ
Весна наступает на все
Своими черными лапками.
Все тает у ней в носу,
Она машет черными грабками.
Все улицы в грязных соплях
И меланхоличных собаках.
В оборванных проводах
И важных татарах.
В лузгающей семечки детворе.
В воробьях и банановой кожуре.
В ленноновцах, в полубандитах.
В прокуренных девках сердитах.
В социальных экспериментах
И собачьих экскриментах.
Весна идет, весна идет.
Мы молодой весны гонцы.
У нас лиловые концы.
ДЕВОЧКА-ФИТЮЛЕЧКА
Девочка-фитюлечка в Парке имени культуры
Видит бабочек из дряни, собачат из арматуры.
Видит, как один казах
С пидорасиной в глазах
Сжал портвей меж двух сосенок
И прется, словно поросенок.
Видит, видит космонавта.
Он на спутнике летит.
Сверху зрит он алконавта
И перстом ему грозит.
Видит, видит Гаутаму.
По дорожке он идет,
За палец держит свою маму
И насупленно поет...
Ах, Парк, Голубой, нескончаемый,
Вечный и бесконечный.
Ах, Парк, для ненужных детей
И беспечных покусанных женщин.
Ах, Парк, для незримых существ,
Что под видом незримых веществ
Циркулируют в каждой сосне,
Открываясь людям во сне.
К девочке-фитюлечке подошел солдат,
Железными зубами кусая шоколад.
Солдат со съехавшей крышей.
Ему кажется, что он девочкин брат.
Стуча железными зубами, он говорит:
«Сестра, я никак не могу согреться...
Было много водки и перца,
Донна Ванна, кипятковая Анна
И сухая горчица в носки.
Но во мне не растаял лед.
Но во мне не растаял. Вот.
У меня вместо печени — лед.
У меня вместо сердца — лед.
Было много людей, сестра,
Но тебя я не видел меж ними.
За тебя я боялся, сестра.
Я думал — тебя убили...»
Девочка-фитюлечка плечиком пожала,
Свистнула и прыснула, резво побежала.
Она мчится — солдат за ней.
Зажигаются сотни огней.
Она забегает в лица
И пытается в них притаиться.
Она хочет укрыться в стволах.
Хочет спрятаться в детских глазах,
Но ее выдает страх.
Но ее выдает ее страх...
За девочкой гнался солдат очень долго,
Но все же настиг, перерезал ей горло.
И зачем нужно тело в этом Парке,
Где все не всерьез?
Хочет девочка — станет одной из берез.
Хочет — станет засохшей ватрушкой.
И съедят старик со старушкой,
Осеняясь крестом, под российским кустом,
Поделившись кусочком с лягушкой.
НЕУКЛЮЩЕЕ СОЗДАНИЕ
Горестным было пробужденье ея.
Луч вполз в зеницы, будто змея.
Днесь она в Азии.
Муха парила в однообразии.
Неуклющее созданье.
Прости тебя Бог.
Высоко наше зданье
И тяжел потолок.
Свет обретши,
Но всем существом в полусоньи,
Движется,
Как самовластный укажет ей рок.
Мглистые лица.
Божии лики.
Только боится,
Что лыжную палку воткнут ей в бок,
Под ребро.
И тяжел потолок.
Высоко наше зданье.
Прости тебя Бог,
Неуклющее созданье.
Хочется так нарядиться ей волком
И побрести, побрести тихомолком...
Утро. Сидит за бутылкой кефира.
В уши чего-то ей шепчут зефиры.
Только во рту ежедневный металл,
А в голове постоянный кристалл...
Она одевает какие-то боты.
Она непорочно спешит на работу.
Туда, где столов и дверей сочетанье.
В высокое зданье.
И там в забытьи
Проводит свои
Тихие дни.
И снова вечер.
Опять деревянная печень.
Огни.
Мужчины бензином воняют.
Подъезда жерло.
И тьма.
И кто-то во тьме этой будет стоять.
Тот, кто гасит светила.
И звякнет ключ о ступеньку...
И крик не успеет...
И горло наполнится кровью.
Но, вот она — дверь.
Электричество включит самовластный ей рок.
Спасибо, Господь, что сегодня снова не встретился лыжник,
Тот, что лыжную палку втыкает в бок.
ХХХ
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу,
Хвост и глупую башку.
Экое кири-куку!
Зайку бросила хозяйка,
Под дождем остался зайка —
Весь сощурен, как узбек,
И в зубах торчит «Казбек».
У меня живет козленок.
Я сама его пасу.
Скоро пустим мы козленка
На шашлык и колбасу.
БРАТ, ГДЕ ТВОИ ГЛАЗА?
Брат, где твои глаза?
Когда от ласк кинокефалов
Ты шел в запретные поля,
Желая вырваться из круга,
Там ел ярутку полевую
И делал новый амулет,
Ты все же думал, что статичен.
Брат, где твои глаза?
Когда ты, наступив на скепсис,
Ей гладил розовые ноги
И видел, что она, как яшма,
И что в руке ее лимон,
Ты все же думал, что статичен.
Брат, где твои глаза?
Когда в том городе, где крысы,
Где кровь в пергаменте окна,
Где Орден Бахуса, селедочный салат
И червь глядит на нас со дна стакана,
Тебя на кладбище несли в последний путь,
Ты, к сожаленью, думал, что конечен.
Брат, где твои глаза?
ЦВЕТЫ
Душно в доме. Хочешь — иди на рыбалку.
Но сначала мы сходим с тобою по черви.
Безглазые, толстые в мокрой, тяжелой земле.
Безглазые, толстые тучи на небе тяжелом.
И в желудке тяжелом яичница с салом комами.
Остановишься, смотришь — смыкает глаза.
И на диво в твоем одноцветном покое
Что-то хочет Создатель.
То гусиным пером он, то палочкой чертит.
То пройдется серебряным карандашом,
Размывая штрихи.
Это кончится — будет другое.
МИКРОБЫ ВОКРУГ НАС
ХХХ
Мандовошечка гуляла,
Кунью шапочку надевала.
Руковички худеньки —
У ней ручки зябнут.
Штоф наливочки брала,
Чтоб как следует дерябнуть.
А как первый стакашек
Пила за Илью Муромца.
А второй стакашек
За Полкана-богатыря.
А третий стакашек
За землю нашу Русскую.
А четвертый стакашек
За прекрасных дам.
А пятый стакашек
За тех, кто в море.
А шестой стакашек
За прекрасный случай.
И как пошла у мандовошечки
Тошнота и рвота,
Шапочку потеряла,
В сугробик повалилась.
Тут и злые менты прикатили.
Мандовошечку свинтили.
Сгребли плутовочку —
Свезли в ментовочку.
РУССКО-АЗИАТСКАЯ ПЕСНЯ
У болота шиповник отцвел.
Бога ждет Заурал в Дни Собаки.
И сучару-чалдона в нирвикальпа самадхи,
Как в кизиловый глазик.
Взгляд обратно вошел в кизиловый глазик.
В дырочку — щурх!
Но кикиморки тут не дают.
Но шишиморки скачут, судачут.
И хлоп — ставенки.
Травку болотную жрут.
И штоф водки.
Давай дядю Мишу!
«Дядя Миша, ты хочешь пожить?
Русский выхухоль, падел, ты, дядька!»
«Эх, кикиморки, я ль не всезнающ,
Вечен, вечносвободен, пречист,
Всесовершен, всеблажен и бесформен...»
Вот и осень. Другие чалдоны вернулись.
Вот и осень. Другие чалдоны ширнулись.
За эфедрином послали
И в конопляннике голом
Сели играть в цимбергу.
На сосне колокольчик повесят.
На осине висит барабан.
И забудут, что был тот шиповник.
И забудут,что был дядя Миша.
Так живут мудрецы наобум.
Красят хною кончики пальцев.
Червячков из фольги вырезают.
И Бычище — Проклеван Бочище,
То есть дом их, не так уж плох.
Ах, в нем сало, еловые доски,
Уксус, клюковица и полынь.
На полынь колдовать неохота —
Трут шафраном дряблые щеки.
Все по Йеменской знают звезде.
В ухо вденут кольцо и — знай наших!
Ну а дядя-то Миша уехал
На Шамруд на реку и ку-ку.
А был он, словно бабай.
Носил шапочку-бормотай.
В отхожем месте не баловался.
С сороконожкой не целовался.
Поганы деньги не брал руками
И мухоморы не бил ногами.
Видел, видел вашу мохнашку
Через дырявую чашку.
ВОЗВРАШЕНИЕ ПУШКИНА
Пушкин пробил головою лед —
В Баренцевом море близ острова Колгуева.
Где он был полторы сотни лет
Не знала служба полковника Волобуева.
И что железными он губами шепнет —
Не растащат по песням всякие барды.
Лишь снежинка одна блеснет,
Томно опускаясь на обледеневшие бакенбарды.
ПРО ГРИБЫ
Ажурны буковки следить письма грибного
И по лесам ходить неслышно снова,
Где из земли грибов размеренно движенье,
Короткий век грибной, плачевно пораженье.
Змей шепчет змею: «Слушай, друг,
что я сказать тебе имею, —
Меж насекомыми и прочей мелюзги
Грибы — глухие пенисы тайги.
И от змеиных услыхал я пионеров,
Что есть грибы неслыханных размеров».
Обнимет гриб гриба:
«Ах, наша жизнь — борьба!
Соборно прорастем сквозь мох,
Как купола из будущих эпох».
ПОУЧЕНИЕ ФИЛОФЕЯ, ЛЕСНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОБ ОХОТЕ НА ЗВЕРЕЙ, ОБИТАЮЩИХ В СИБИРСКИХ
ЛЕСАХ
Лонись матушка-нужда копытом торкнула мне в спину.
Ведь мой карман давно прожгла последняя монетка-барнаул.
И значит — что? Бери ружье — иди стреляй дичину.
Но ослепла старуха-винтовка, прям караул.
Пищаль заложена в ломбард, у штуцера целик мал,
Моя коническая пуля стреляет всякую страмину...
Ну положенье — ети ж твою мать!
Эх, засадил первача — придал себе куражу.
По подошвам гор и голым еланям,
По логам и падям кружу.
Скырлы-скырлы.
Отнекиваю собачьи грибы,
Чтоб не лезли в мои следы.
Сказал красное словцо на солнцезакат
И сразу понял — будет мне фарт.
Достал из кармана колоду карт.
Сударь валет — до полу уда, —
Будешь мне слуга вплоть до Божия Суда.
Все смолкло. Не зукают и комари.
Покрещусь на потух вечерней зари.
Раз пошла такая стрельба по месяцу —
Шестерочке-суке приказ повеситься.
Поди ты, шестерочка, в чащу
И сделай петлю настоящу.
Четыре дамочки-хлопуши.
Вот хер вам в нос и серьги в уши.
Вы подите, вы подите — кого хотите приведите.
Зверь, ты, зверина, ты скажи свое имя.
«Я заюшка-ушкан».
Ну полезай ко мне в карман.
Туз пиковый — хулиган,
Поставь мне теплый балаган,
Чтоб острый хиус в бок не колол.
Король пиковый, ты пойди — кого хочешь приведи.
Зверь ты, зверина, ты скажи свое имя.
«Я есть крупная птица тетерев глух
(По вашему косач)».
Взял его, братца, за толстый клюв.
«А я копалуха — глухая тетеря, его жена,
Кушала пупочки хвойных дерев и стала сочна и жирна».
Ну, поди сюда.
«А мы копалята — малые птички,
Любим муравьиные яички»
Не нарастили узорно-серое перо.
Не наклевали сизо-зеленый зоб.
Ладно, сгодитесь мне в суп.
«А мы копалята — дружные ребята,
Прикатили тебе яиц глухариных.
Глянь-ка — вдвое больше куриных».
Ладно, сгодятся мне на яишенку.
Королек червей сохатого привел.
Королек бубей — хорька-черногруда.
Королек трефей — летягу.
Семерочки-мунгалы шакжоя ведут.
Восьмерочки-сыбыры Мишу ведут.
(И медвежий корень в лапе.)
Девяточки — волка-серка да волка-князька.
С десяточками сам бабр пришел.
Кровь изо рта каплет.
Говорит: «Хватит с тебя снедного зверя.
Проваливай. Хозяин недоволен».
Все-все. Ухожу.
Теперь бабки есть — добуду в Нерченске свинцу.
К Афанасьеву дню собрался на Обдорскую ярмарку.
Да, вообще, перед смертью не худо бы поездить —
Посмотреть Евразию.
ДВЕ ДЮЙМОВОЧКИ
Две Дюймовочки побились об заклад,
Кто прострелит, бля, фуражку на лету.
Две Дюймовочки побились об заклад,
Кто же срубит, бля, осинку на скаку.
Две Дюймовочки побились об заклад,
Кто быстрее выпьет самогону полведра...
Красномордые, расселись за столом,
А к окошкам прилепилась детвора.
ИЗ СТРАН СИБИРСКИХ
Из стран сибирских, стран далеких
Три тихих отрока бредут.
О всех рассеянных предметах
Беседы тихие ведут.
Стезями мрачными разврата
Один из них, увы, пойдет.
Магнитный городок найдет,
Где по асфальту рваные гандошки
И зырит Зверь во все окошки.
Где плачут без колодезной отчизны.
Над теменем Велика Пустота.
Второй спасется именем Христа.
И скит найдет уединенный
На море Анзерском пацан благословенный.
Молитвой будет сердце очищать
И взор на небо обращать.
Духовно весел и покоен
Придет он в воздух, четкий воин,
Высоким именем жечь супостатов
И мысленных врагов — козлюющих мохнатов.
Так будет в Господе по книге совести он жить,
Покуда уж поклон не сможет положить
И руку поднимать для крестного знаменья.
И спустится к нему небесное селенье.
А третий науку мнимой свободы
Постигнет в процессе тяжелой работы
Над предметом, не подлежащим чувству зренья,
Всегда ушедшим, как вчерашний день.
И что ему вся наша слабая хотень,
Как и красной стрелке циклона.
ХОРОШО НА РЕЧЕНЬКЕ
Хорошо на реченьке, если в сердце — птичка.
Она крылышком взмахнет.
Рученька веслом взмахнет.
Ершики горбатые хрипло запоют.
Девы водяные поцелуй пошлют.
И давай, братан, поплыли
804 мили.
(Последние 400 уже по небесам.)
Сгорбленный Ершов ручкой помахал.
А речка-вьюрочка собой не однака.
По Небесной Сибири бежит, как собака.
А по бережку Христос
В красных сапожках гуляет,
Черничек, черниц с кустика срывает.
Коньки-горбунки хрипло поют,
Прямо к дому ведут.
А дома маленький Данилка
В петельку удавился.
А дома маленький Ванюша
Из револьвера застрелился.
А дома маленький Петюша
Отравой отравился.
А Ерофей Петрович
Вынул хрен и застрелился.
ХХХ
С мышьяковистой водицы сахалинской
Стали песельники громче завывать.
И идут, не чувствуют погоду,
И степные клады под ногой.
Эй, шустрей идите, милые, шустрее.
Вот идут нехоженой тайгой...
Вот идут нехоженым болотом.
Здесь золотоносные хвощи.
По земле ползут энцефалиты,
Прыгает коряжная болезнь.
Эх, Россия ты моя, Россия!
Эх, Россия, вольная страна!
ХХХ
Я знаю, Лев, ты можешь умереть,
Пентакли делать от любви и петь,
Где сапогами давят песняка,
Где за Уралом, бают, есть река,
Где девочка на крашеном полу
И яблонька без яблочка в углу.
Он отвечает в безупречном сюртуке —
Медведь на аметисте, серый Водолей в руке.
Константинополь видел он в реке.
Ночами красил яйца для рабочих
И сусликам их ушки отрезал.
А в полночь так хотелось на вокзал.
На станцию, где запах жирной рыбы и морской звезды.
Где просто так в борхезе станционном
Глупыш по полу пляшет на лопате,
Пуская ловко кольца дыма.
Где рослая вздыхает сибирячка,
Которая так тянет портсигарчик с монограммой
Из, эх, кармана полосатых брюк...
Чуть датый к ней идет урюк.
Уедем, Лев, давай, пока мы живы.
Зыряне будем или фабианцы.
Журнал затеем.
Вы же нам пишите
От двух до четырех копеек за строку.
А ночью в домик свой залезем и — куку!
Кто на рассвете к нам стучит в окошко,
За спину спрятав ржавый ледоруб?
АМЕРИКАНСКИЙ МОРЯЧОК
Принимали соленые ванны.
Облеклись в кители.
После чаю писали телеграммы.
Разбирали фарфоровые яйца.
Играли в пирамиду.
Слушали стрелковую музыку из окна.
Съели чайку.
Засвежело.
Вся эскадра стояла.
Привели венгерца-путешественника, закутанного в одеяло.
Расстрелять.
Кто кушал шоколад внутри земляных башен.
Расстрелять.
Петухи-фазаны на чугунных беседках.
Расстрелять.
Дальше, дальше за рекой,
Дальше за мостами
Едет, едет вагон с белыми крестами.
В вагоне американский морской морячок.
Заперт людьми на тяжелый чугунный крючок.
Гуманитарный морячок,
Спасший полковое знамя.
Сидит и задумчиво теребит себя за вымя.
Что будет — не знает.
Ни хрена не понимает.
Офицерскую елку не наладили.
Неважнецкие известия с-под Варшавы.
И что-то там еще на прилегающих Карпатах.
ИНДИЙСКОЕ ЦАРСТВО
И что, скажите, делать здесь поборнику Христовой веры?
Вот огнь в горах. И червь в огне. И запах серы.
Трехноги люди здесь, рогаты, и люди туловом скоты
Из речки Кун берут агаты, сапфиры дикой красоты.
Здесь люди есть во лбу с очами.
Три тысячи царьков ночами
Осуществляют под звездой Лувияарь
Йогическое взбалтывание брюшных внутренностей
Возле золотой палаты на четырех золотых столбах.
Сгибают язык,
Так, чтобы его кончик касался верхнего неба.
Созерцают на кончике носа деву с розовым лицом.
Достигают однополярности, обнимая в одно
прошедшее и настоящее.
А люди-улитки, не имея ни кафы,
Засыпают наглухаря
Посреди песчаного моря,
Которое не может перейти человек.
ЗМЕЙ
В Башкирстане.
То есть в Бошкортостане.
Короче говоря, в Башкирии
Видели в озере
Семиметрового зеленого водяного змея.
Только и скажешь, что
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
Помилуй мя, грешного.
ХХХ
Барин будет у нас, лишь крещенские грянут теплозы.
С ним и Зоя его, что живет в сундучке его красном.
Вышли встретить его мужики,
Земляникой сухой набивая свои папиросы.
А горбунчик невидим скулил и плясал вдоль реки.
Выбегает она, эта девочка, неотвратимо.
И сухими губами она говорит, говорит.
И худая она, говорит она быстро и странно.
И огромная, красная виснет над ними Луна.
Эх ты, елочкин свет, и в глазах бельевая веревка.
Эх, ты ртуть. Эх ты, серп.
А меня не видать, я далеко, увы, я далеко.
Вот бы крестиком выпасть кому на ладонь.
Брызнуть клюквой.
ХХХ
Где хариус стоит на перекате,
А баба плачет в дохлой хате,
Покойник с именем Вилен
В окошка полиэтилен
Глядит варначьими ночами,
Там брага ходит под свечами.
Бруснично-клюквенные очи.
Шипит она и замуж хочет.
Земля уходит от воды.
Уходит филин от беды.
Таймень уходит в глубину.
Ушел покойник на Луну.
Завоет брага здесь одна
И рухнет на пол, холодна,
Бесстыдно обнаживши грудь.
Здесь больше замуж не беруть.
ХХХ
Ходил по болотцам
И чавкал копытцем.
А там, где посуше, татарник кривлялся.
А там, где поглуше, осинка с зубами.
А там, где послушать, стрекозки заныли,
Раздвинули ножки и в листья уплыли.
А желтые листья попадали в лужу.
Стрекозок за титьки хапает жужел.
(Стрекозки, что козки.)
К ноябрьским куплю себе новую шапочку
И отращу себе новую лапочку.
СОЛНЫШКО НАД НАМИ
У каждого из темечка тянется ниточка.
Солнышко все ниточки держит в руке.
Я арабскую цифру пишу на песке,
Чтоб отметить — я снова иной.
В моем доме с пробитой большой головой
У Николы Угодника мальчик крестился.
В моей русской печи красный филин гнездился.
Изголовьем ночами я летел на восток.
Эх, тайга-майга. Тараканиха-речка. Речной песок.
Солнышко по небу похаживает.
Солнышко ниточки подергивает.
Я ушел в холодные реки России.
На брюхе моем
Пять поперечных черных полос.
Мои руки с оранжево-желтой каймой.
Во устех моих ржавая цепь.
У нее глаза голубые.
Красное брюшко.
Она вся, как вздутый снизу предмет.
И серебрян ее анальный плавник.
А спинка зеленая,
С металлическим отливом.
И рядом с ней девятииглый мальчик.
К основанью ее хвостового стебля
Прикоснусь я стеклянной палочкой.
СТАРИЧОК
Водка и небо,
Как красивая синяя штора.
В наши одиннадцать окон
Видно вымерших птиц.
Видно древнюю местность, не знавшую Эратосфена.
Сидел старичок, лицом как полено.
Сидел — не скандалил.
Опять засандалил.
А баба его все бубнит на крыльце.
А у него все условные знаки на его проступают лице.
И Солнушко Волчье во лбу.
А баба бу-бу да бу-бу.
Вот раскину градусную сетку —
Восемь параллелей да меридиан.
Вот пойду пощупаю соседку.
Вот налью себе еще стакан.
Красного себе запарю чаю.
А кота в борхезе утоплю.
Ничего тебе не отвечаю.
Значит, бля, надеюсь и люблю.
МАСТЕР ПО ТЕЛЕВИЗОРАМ
Он приходит, убеленный сединами.
Гладит ваш безобразно распухший телевизор.
Телевизор стонет, плачет.
Прячет в лапы опухшую морду.
За окнами проходят люди с невероятно длинными ногами.
Хихикают птенчики.
ЧЕБУРАШКА
Чебурашку, злую, как дворняжку,
Отдавали замуж на чужую сторону.
Нехорошей теплой водки выпив фляжку,
Отдавали замуж чебурашку молоду.
Ничего и что немного волосата,
И ушами слишком уж богата,
Лапками постыдно кривовата,
И сама невесть какого пола,
Но зато не может без футбола.
Как болеет. Как она болеет,
Своим тельцем к телевизору припав!
И каких бы ей еще забав,
Когда есть пинание мяча.
Ча-ча-ча. Ча-ча. Ча-ча. Ча-ча.
Ночью снится ей: сама она, как мячик,
По полю так безмятежно скачет.
То один, а то потом другой
Ударяют с яростью ногой.
А она, без глаз, летит в ворота.
И в ворота ей попасть охота.
Если так, что значит красота
И почему ее так превозносят люди?
Или это духа высота,
Ну, а я так думал — хрен на блюде.
НЕ ВЫХОДИ ЗА УДОДА
Силуэт на фоне неба.
Слепок птичьего следа.
В эту осень сорок клювов
Потянулись на Елдан.
Там кизильник, там крестовник, там сплошная бузина.
Там кроншнеп заиндевелый подольет тебе вина...
Не выходи за удода.
В коробейку по копейку,
В сундучок по пятачок.
И старуху, и маруху — всех посадят на крючок.
Пуга, руга и сумельник.
На Василье — поснедать.
Только бздун и неумельник
Не годится гнездовать.
Не выходи за удода.
Как на клюв на специальный,
Как на клык возьмет судьба.
Бабе Юхе ляжет в брюхе
Слепок птичьего следа.
В небе, в небе над полями
Лягут птичии пути.
И хотелось, между нами,
Чтоб ты могла по ним идти.
Не выходи за удода.
ПОД ЗЕМЛЕЙ ЕСТЬ ДОМИК
Под землей есть домик.
В домике старушка.
Все сидит за столиком и чего-то шьет.
Старая старушка (лет уж ей немало).
С Воркуты далекой мать сыночка ждет.
На бровях — алмазы,
А в ноздрях — рубины.
Под ногтями светит негасимый свет.
В волосы воткнула она рыбьи кости.
И в кастрюльке варит жабу на обед.
Как сынок приедет, но совсем без ножек.
Может, и без ручек, мож, без головы.
Но при этом главное, что сынок приедет.
А если кто приедет, а это не сынок?
Помнишь как, сыночек,
Играл ты волчьей лапой.
Как волчок без лапы по снежку хромал.
Одинокий кустик притворился папой.
Как мужик в обозе папу вспоминал.
Помнишь ты такое неживое небо,
В пустоватом доме тихую свечу...
Как кормил ты хитрых, неприятных птичек,
Убирал за ними птичую мочу.
Птичечки зевают, к сердцу подкатились,
Как катится тропинка от деревни к большаку.
А на бугре у мельницы
Гуляет Женька-ястреб
И пропивает, падла, разлуку на ку-ку.
Ты подожди, сыночек, сворота у тропинки.
Ты не гляди подолгу сегодня на закат.
Пойди-ка ты пощупай, давай, манду у Нинки.
А к вечеру с тобою поедем в облака.
ХХХ
Как пукает медведь,
Коту не пукнуть.
И как вздыхает он,
Собачке не вздыхать.
И червяку так лапу не сосать,
Как Мишенька ее сосет.
Кого там ночью к дому принесет?
Мохнатой мордой кто прильнул к оконцу,
Подобен глазками японцу?
Кто ночь бродил по зимогорам,
Волок елду он по сугробам?
О, кто не станет агрономом?
Кто не уедет в Коктебель?
Кого в пургу, кого в метель
Застрелят пьяные дружки,
Живот разрежут, выпустят кишки?
Кого опять зажарят с луком?
Кого пример другим науком?
КОЗЮЛЕЧКИ
Козюлечки бегут до папы,
А папа спит, раскинул лапы.
И уж янтарная слюна
В проеме губ его видна.
Козюлечки бегут до мамы.
Лишь только звук от пилорамы...
Невидимый киндер-сюрприз
С небес упал со свистом вниз.
Козюлечки бегут до тети.
А тетя где-то спит в полете
С чудесной розой в голове,
С жучком российским в рукаве.
ПЕСНЯ О ГОЛОВЕ
Настрелять бы воробушков по переулочкам.
Полюбоваться бы на дедушку косматенького.
В сыру-землю вылить бы чару питьица медового.
Исхлопотать вечного прощеньица
У батюшки-микробца да у матушки-микробицы.
И прощеньица-благословеньица у ямы глубокой,
У красна солнышка, копья боржамецкого,
У палицы булатной, у добра коня,
Да у своей у буйной головы.
Голова гудит, как Киев-град.
Голова дубовая, стольне-киевская.
Голова совершенно белокаменная,
Голова моя кирпичная,
Голова моя сер-горюч камень.
Головы моей Сокол-корабль
По морю Хвалынскому скроется вдаль.
МИКРОБЫ ВОКРУГ НАС
Полоскание стоп чистой проточной водой.
Поиск малюсеньких глазок в межпальцевых складках кистей.
Нормальная красная флора росла сквозь его ладонь.
Он видел и привыкал к отсутствию новостей.
Молчит его телефон, как лимфатический узел.
В оконном небе уже не чувствуется высота.
Нормальные черные волосы растут из желтого пуза.
Толкаясь, лезут микробы в носоглотку и полость рта.
Пищат на лице и туловище.
В старой обуви, в кожаных стельках.
Страдают и ждут, вешаются в микропетельках.
Жадно пьют и глядят на дорогу,
А дорога клубится слегка.
Чу, по ровному-ровному полю
К нам зародыш бредет столбняка.
БЛАГОСЛОВИ СВОЕ ЖИВОТНОЕ
Благослови свое животное.
Грейпфрутов в овощном ему купи.
Последний «Птюч» ему купи.
И в нескончаемую ночь
Укрой получше тельце его потное.
А если будет утро, проследи,
Чтобы не ело, чтоб не пило бы холодное.
И если будет день, то не забудь —
В 14.00 его пора доить.
И если будет день, то не забудь —
Глюкозу добавлять ему в полезное питье.
И, если будет вечер, не забудь
Поцеловать его в разомкнутые губы.
И, если снова будет ночь,
Ему присниться постарайся.
Под теплым, ватным и немного липким
Ему чеши тихонечко загривок,
Чтоб хоть на время перестал он думать
Про тот огромный и сияющий топор,
Что скоро с хрустом перерубит его шейку...
ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ
Зайцы, кролики и пищухи
Долго числились в отряде грызунов.
Люли-люли грызунов.
Но накопились доказательства,
Которые заставили систематиков
Выделить упомянутых зверьков в отдельный отряд.
Люли-люли отряд.
Зайцеобразные обитают на огромных пространствах —
От Аляски до Парагвая.
Люли-люли Парагвая.
От азиатских тундр до тропических лесов Явы.
Люли-люли Явы.
Нет их только на Мадагаскаре,
На многих островах Южной Азии.
Не было в Новой Зеландии и Австралии.
Люли-люли и Австралии.
Ныне их завезли и туда.
Люли-люли и туда.
ЗАЙКА КИТОВИЧ
Зайка Китович видит, как в сердце его едет поезд.
Шпалы холодные, рельсы холодные, сердце заноет.
Хочется водки, огурчик, но он закодирован.
Ночью почудится, будто за стенкой слушают карлики.
Зайка Китович мнит — продолжается осень.
Ходит по комнате, словно по темным тем шпалам.
Остановился у водки, круги долго-долго расходятся.
Рядом проносятся тучи. Россия не возродится.
Он прилипает к окну, и какие-то птичие выродки,
То ли журавлики, то ли щеглы с постными лицами,
То ли осенние карлики, в даль устремляются.
И так продолжает твориться невыразимое.
Чай вскипятит.
Чтоб сердце не ныло, носом подышит.
Радио включит,
Но там ничего не услышит.
ПОТЕРЯЛСЯ ЗАЙЧИШКА
Потерялся зайчишка.
Под немытые окна России,
Под Песняров и бессчетные стройуправленья,
И под вышестоящие органы.
И под инвалида с маленьким Сталиным,
И под народные деньги.
Миллионы народных денег.
КРОЛИК РЫБАРЕНКО
Стал Рыбаренко — дарвинист,
Когда портвейн Азербайджана
По липким окнам дул горнист,
А дрянь серебряное жало
В двух ручках тоненьких держала...
И был на удивленье чист
Осенний космос головы
У дрессированной совы.
Рыбаренко себя под Дарвиным чистит.
И, хихикая, ус макает в чернила.
И марает словами испуганный листик.
И трепещет листик и дергается
В лапах его мускулистых.
А кролик сопит и воняет.
Кролики жизнеспособны.
Кролики оптимистичны.
Кролики — наша смена.
ХХХ
Сидел козел на меже —
Сильно пьяный уже.
Говорит, кончается эра Овна,
А начинается эра Говна.
Вот копыты трясутся
И рогами стал кривоват.
А что сознание не расширил —
Никто и не виноват.
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
Мальчики дятлообразные, а девочки пролетные.
Мальчики козодоеобразные, а девочки гнездящиеся.
Мальчики курообразные, а девочки оседлые.
Мальчики пеликанообразные, а девочки зимующие.
Мальчики — хищные птицы, а девочки случайные.
И только я — неопр. статус.
ХХХ
Золотого червя не хватает китайскому яблоку.
Непросторно в душе и закрыты на ночь все форточки.
А на пылком морозе рябчик ходит и глазом косит.
И в трактире цыган сонно курит турецкий табак.
Что-то трудно дышать, исстрадался, погрызть бы орешков.
Взять бы кровь отворить и спуститься к кострам на снегу.
На царя Соломона сели мухи и лапками трут.
На всю мудрость его, гу-гу-гу.
Что-то гривенник снится, и снова он снится и снится.
Кинуть в прорубь его, в ледяную бездонну ердань.
Высоко-высоко там, во тьме, реет вольная птица.
Одним глазом на полюс глядит, а другим
смотрит на Иордань.
ПЛОХО ЛАСТОЧКАМ
Плохо ласточкам в милиции служилось —
Сапоги для лапок больно велики.
И длинные их перья хвостовые
Не спрятать в милицейские штаны.
А зимовать им в Африке привычно.
А не в хрущевках на последнем этаже.
И мухи точно им полезней,
Чем с колбасой и салом бутерброд.
А снятся ласточкам не розовые бабы,
Но стаи насекомых над водой.
Им глазки режет дым от Беломора.
И в клювик много водки не зальешь.
СНЕЖИНКИ
Снежинки падали, как человечки,
И кучею лежали на крылечке.
Снежинка толстая с огромной папиросой
Все задавала всевозможные вопросы.
В очках снежинка с именем Памела
Вопросов больше не имела.
Снежинке неопределенной половой ориентации
Так надоело все по воздуху мотаться
С какими-то снежинками-мычами,
Что тупо шевелят короткими лучами.
А мускулистой крупной мачо-снежинке
Мечталось о симпатичной снежинке-жинке.
ХХХ
Ехал чувак по фамилии Бриль —
Солнце на небе плясало кадриль.
Ехал чувак по фамилии Вяк —
Солнце плясало уже краковяк.
Так их проехало где-то штук шесть —
Солнце на небе село поесть.
Только за стол — смотрит, едут опять.
«Я вам не буду, падлы, плясать!
Пусть вам станцуют червяк со змеей.
Или Петрушка под мерзлой землей».
ЕРШИ
Прозрачной деве минеральной воды
Ерши порвали по пьяне трусы.
Поскольку были они молоды
И не желали работать за кусок колбасы.
А всем рыбакам пожелали ерши
Засунуть в зад рыболовные снасти.
Нет рыбьего тела. Нет рыбьей души.
Есть рыбье воображение у власти.
Ершово живешь, мужичок-червячок,
Пора уж тебе на покой в водоемы.
Сначала железом пропорют бочок.
А после за милую душу съедят.
Живем по природе, тудыт твою мат.
СУХАРИКИ
Как уютно было сухарикам в мешочке лежать,
Пока Мышь не пришел и не начал их жрать.
Громко чавкая и буйно веселясь,
Стал сухарики он пожирать, над ними глумясь.
Так Мавр глумился над бедными малютками,
Обращаясь с ними как с последними проститутками.
Так мясорубка глумится над кусочками мяса,
Превращая их в фарш с криками «Асса!»
Так мошкара глумится в лесу над человеком,
Хоть он веточкой машет и дымит «Казбеком».
Ой, рано-рано солнышко всходэ.
Сказали сухарики: «Положим конец этой ерундэ!
Ох же, дяденька, ты, Мышь,
Получи-ка, падла, — шишь!»
И распалилися сердца
Восторгом пламенным глагола.
Краями острыми сухарики давай вовсю колоть
Мышиного татаро-монгола.
Так потерпел фиаско Мышь, неопытный мечтатель,
От сухариков разгону получатель.
И стали сухарики жить-поживать соколиками ясными.
И стали в мешочке лежать-полежать кусочками прекрасными.
Все в коротеньких кожушках,
Как петушки в гребешках.
Учредили себе федерацию
И ходят иногда с флажками на демонстрацию.
ЗООГОГИКА
Собакевичей взял на прогулку,
А то, сидючи дома, день сгорит, что белая страница.
«Значит, так — почистить сапожки, не лупать глазками,
не материться.
В рот из лужи воду не брать. Будем чинно гулять вдоль реки.
А, увидев собачьих мамзелей, не кинемся наперегонки».
«Дозволь нам, батюшка, в лесочек,
Погрызть там чисто корешочек».
Гуляли аккуратными хлюстами.
Мочились только за кустами.
И в одуванчиках, катаясь,
Ртом мух ловили, забавляясь.
Шли собакевичи с прогулки,
Смеялись, словно полудурки.
И жирофле, и монпасье.
Покорнейше благодарим, мусье.
Приду домой — живот весь в космах.
А на хвосте моем — репей.
За штык винтовку подниму на вытянутой лапе.
А будет телефон звонить — я трубку не сниму, к едрене папе.
Волною к горлу подкатило.
Я плакал, выл и грыз перила.
ПРОКЛЯТИЕ СОБАКИ
Собака плакала в вольере,
Размазывая лапой слезы по лицу:
«Вы что же это, суки, совсем обалдели,
Совсем не даете мне колбасу.
Вам — котлеты с картошкой. Мне — хлеб и вода.
Да как же не стыдно вам, господа.
Да чтоб ваши девушки
Были с формами и содержаньями такими,
Что всегда вам захочется гулять с другими!
Да чтоб после того,
Как вы на работе весь день проишачили,
По телевизору вам показали одно лишь кошачье!
Да чтоб вы таскали Родину на прогулку,
А она вам непонятное шептала —
«Агыр, убыр, гугень»,
А вы бы переспрашивали, гладя ее по голове,
А она бы вновь непонятное шептала!
Да чтоб вам сна от яви не отличить!
Да чтоб вам на улице по морде получить!
Да чтоб вам с томиком Лермонтова
Под деревом не лежать!
Да чтоб жучьем-паучьем
Елочку гадкую наряжать!
Чтоб никогда не прочесть вам «Повести Белкина»,
А читать до старости лишь «Повести Стрелкина»!
И чтоб наперекор вашему индивидуализму
Каждый день перед сном вам — ведерную клизму!»
ГОВОРИЛА МНЕ РЫБА
Говорила мне рыба,
Что больно хвост разрезают на две ножки.
И между ножек палец толстый больно вставляют.
И со свистом дуют в жабры,
Эпителий которых почти полностью разрушен.
И хихикает рачек, вцепившийся в жабру.
Паразитический, бля, веслоногий.
И выводят к гостям, а сил уже нет...
РЫБЫ
Как текут через ночь несъедобные рыбы
Непонятным и серым синайским письмом
(Некоторые совсем уж странные несъедобные рыбы,
Напоминающие точку с запятой).
Так происходит трансгрессия сна,
Поглощение яви темным, ночным,
Темными как бы трепангами, голотуриями,
Фальцгобелями-зензубелями ак тукет,
Несъедобными губами мамы-рыбы,
Твердыми как паркет.
РОДИТЬСЯ РЫБОЙ
...котят рожденных, нерожденных,
Сосущих «Приму», изможденных,
В сырых бушлатах, в серых списках
И в шевелящихся сосисках...
Родиться рыбой.
Да-да-да. Родиться рыбой.
Шеренги бледных Николаев
Приходят с бледных Гималаев.
Им неизвестна их порода.
Им слишком много кислорода.
Родиться рыбой.
Да-да-да. Родиться рыбой.
Когда б родители все знали,
Их больше б бесы не терзали.
Когда бы сыновья хотели,
Их больше б черти не вертели.
Родиться рыбой.
Но, если Родина не просто слово,
Но, если мы научимся любить,
Мы...
УТЕХИ АВГУСТА
Попив чайку в пристанище своем,
Где все меня покоем утешает,
Где полистать ничто мне не мешает
«Наш Современник» номер семь,
Я вышел из ворот.
На мне добротный свитер.
Одеты сапоги на шерстяной носок.
Я не спеша вхожу в березовый лесок.
Любуюсь, пальцем трогая сучок,
Как трудится беззвучно паучок.
Трудись! Ведь мир трудами славен.
Трудись! И через труд прославишься вовек,
Будь хоть паук ты, будь хоть человек.
Трудись!Трудись же до седьмого пота.
Будь же повсюду благословенна отныне твоя работа...
Иду, иду вглубь леса,
Разглядывая лес не без интереса.
Вдруг — гриб.
Грибок, такой
Красивый и изысканно-простой,
Ко мне навстречу грудью молодой
И говорит:
«Ты, это, послушай, парень,
Срежь меня, в натуре.
Придешь домой, меня помоешь.
Нарежешь кухонным ножом.
Перед рефлектором разложишь на газетке,
Включишь вентилятор,
Чтобы кусочки тела моего обдуло ветерком.
Придет зима. О, видел ли ты зиму?
И эту высь в перунах ледяных?
В нощи замерзший метеор и волхв замерзший.
Такие, падла, наметет сугробы,
Что станут, гадские, в глазах до той поры,
Пока аж огненные розы
Не проступят на сетчатке глаз...
И вот сиди в дому, как пидорас,
И печь топи, и Брюсова читай,
И теплые во рту слова катай:
Ассаргадон, Элам, Египт, Сидон...
По зимнему астралу Фофан и Додон
И те к тебе, однако, не доедут. Замело.
И вот бери большую белую кастрюлю,
Чисть картошку, меня бери, коричнев я и сух.
В кастрюлю воду лей, растительное масло.
Чисть луковку и будет все прекрасно.
И будет у тебя грибной отличный суп.
Суп вкусный, ароматный и горячий,
Как лето.
Лопай прямо из кастрюли ты ложкой деревянной,
Покуда все не съешь,
И сытая отрыжка не плюхнется лягушкой изо рта.
И лезь тогда на печь с законною женой,
Взъерошив ей лобок ленивой пятерней.
И засыпай, и помни добрым словом
Того, кто жизнь отдал за твой спокойный сон».
ХХХ
Пойдем, мой друг, картофель по темноте сажать,
Когда кот кошурку тянет в закоурку с собою спать.
Когда темно, когда черно, уже не светится окно,
Идет во тьме с лопатой мой друг подслеповатый.
Заперся он в малину и ободрал всю спину.
Ударился в забор, как еханый бобор.
А я шел осторожно, смотрел во тьму тревожно.
Какой же я моло'дец — не сверзился в колодец.
Какой же я орел — все ж до гряды добрел.
Ложись, ложись, картошечка, в невидим чернозем.
Играй, играй, гармошечка, визгливым поросем.
АХ, УВЯЛ ГОРОХ, УВЯЛ
Ах, увял горох, увял.
Заизюмился растущий виноград.
Почернели цветки земляники.
Лишь две толстеньких девы резвятся в клубнике,
Перечитывая Маргарет Митчелл.
Ах, не знают они. Ах, не ведают,
Что видны уж в бинокль две зловещие бабочки —
Стеклянница и Огневка.
Ах, увял горох, увял.
Произошло закручивание листьев картофеля.
Приключился некроз огурца.
Уже видят черную плесень на луке.
Ах, увял горох, увял.
Не дождемся съема плодов.
Лишь пижма спасает смородину.
Совершает ради нее безумные поступки.
ХХХ
Обойдя околицу по огородам,
Что ты видишь, бабушка, назло природам?
Улетел, бля, пивень через реку,
Прокричал свое ку-ка-ре-ку.
Мужики выглянут, спрячутся за косяк.
С подоконника кошечка на сносях.
С подворотни собачка решила пошутить —
Загребущий день веревочкой перекрутить.
На реченьку широкую поплывет-поплывет.
А папу песком засыплет, да он лужком зарастет...
БАТАЙКА
Батайка посещал столицу,
Любил блины и к Иверской ходил.
В мешочке он хранил московскую землицу
И славные знакомствия водил.
Глотнувши вдоволь свету и морозу,
В буфете из пузатых чашек пил чаек.
Он был спецом по русскому вопросу,
Который знал он вдоль и поперек.
К тому ж Батайка был философом отменным.
И до того, бродяга, был речист,
Что замирал народец по пельменным —
Француз от вдохновения лучист!
Москва-голубушка. Гармоника играет.
Во рту редиска с маслом тает...
И вдруг — как молнии удар.
Батайка на колени пал.
Вся жизнь прошла в одно мгновенье.
В одно внезапно дуновенье.
Событий тысячи напрасных
Из дней далеких и прекрасных...
От потрясенья взмокла плешь.
Он понял — «я сплошная брешь».
А что за брешь? Дыра ли? Жопа?
Узнает лишь за крышкой гроба.
В МИРЕ НЕ ТАК
Прав был Евтушенко,
Что сдернешь сережку ольховую —
все окажется в мире не так.
Копнул сегодня землю —
Радуга сияет под лопатой.
И какой-то улыбается: червяк-не червяк.
И земля словно и не земля.
А в город можно уже и не ехать — нет его больше.
И сам я — вылитый крошка Пикачу.
И новую жизнь начинать хочу.
БОРИС САВИНКОВ
Есть стихи не о чем.
В Боге будь. Понимать их не надо.
Ты ленив и тяжел. У тебя есть и стол, и лампада.
Я хожу далеко. Я оттуда могу не вернуться.
Для беседы со мной купишь блюдце.
Я же с блюдца пью чай: день за днем, ежедневно и вечно.
Ты не любишь меня? Нет, конечно?
Свисток. Вокзал. Я кланяюсь украдкой.
Что мне угодно в это чертово ненастье?
Купить пролетку и надеяться на счастье,
Которое как яблоко, почтовая бумага,
В конце концов, как карандаш, как папиросы,
Как нерв, который ноет у виска,
И как томленье ниже левого соска.
О, женщина, мой револьвер со мною.
Он виден в приоткрытую ширинку,
Как Русь, идущая свободно к рынку,
Как лютеранин, что забил косяк,
Забыл про маму и совсем зачах.
Я высушил в горелке ртуть.
Я трубки стеклянные запаял.
Я вставил запал.
Я прикинулся, как доцент.
Я себе придумал польский акцент.
Я придумал, что я
Служащий английской велосипедной фирмы.
Работать в терроре, бля, надо крепкие нервы.
РАСТВОР АБЕЛЕ
К месту слиянья шла борная кислота,
Как малиновый долгоносик,
Что уходит от чрезмерно засоленных почв.
К месту слиянья бежал сульфат меди,
Как карлик облезлый, нагой,
Возникший от экспериментов.
Прогрызая овалы отверстий в стенах,
За собой оставляя черные столбики экскрементов.
Полз нитрат кобальта, листоверткой прогрызая листы.
Двигался цинка сульфат, убирая посты.
И аммония молибдат, за собою сжигая мосты.
Железа сульфат, чьи хвостики как глистики-глисты.
Марганца сульфат. Аммиачная селитра.
А я сижу. Передо мной пол-литра.
В эфире металл и стреляют грузины.
Я — букет стальных роз наверху корзины.
Вещества все сольются в единый простор.
За окошком мороз и российский раствор.
Много снега и снег мне реснички щекочет,
Как горький белый кончик лепестка розы.
Вот бы Ибн Сину, что розы сушит, да на эти бы, бля, морозы.
Вещества и народы в единый сольются, могучий.
Я сижу у окна. Скоро лето.
Приползет под окно много гусениц оливкового цвета.
Так же буду сидеть у окна, но уже все будет в жаре.
Словно сижу в феодальном государстве Саманидов,
в столице его Бухаре.
А они все сольются, я знаю, братан, все сольются.
Чтоб проросла из искусственного субстрата
Незримая Роза великая без аромата.
МАЛЕНЬКИЙ ПЕЙДЖ
Играла Муха на малюсенькой гитаре.
Резвились и плясали таракане.
А Жук невдалеке шатался
И звукам музыки приятно удивлялся.
Это ж так играть — какой нужно иметь отвязанный
вестибуляр,
Чтоб разъединить в ритмической взаимозависимости
свои четыре конечности.
Это ж как насекомство беззаветно нужно любить
И иметь в душе чувство бесконечности.
КАРАМЕЛЬ «СЛИВА»
ХХХ
Не дотянется врач своим шприцем холодным.
Не докрикнет, напыжившись, девочка злая.
Не добросят снежок с металлическим звоном.
Не доскачет лошадка, уставшая, как моя мама.
Здесь сижу.
Ем капусту с подсолнечным маслом.
ХХХ
Я могу и не брать по талонам.
Я могу отказаться от хлеба.
И мне больше не наливайте.
Есть у Анны Петровны прорубь
С ледяною острою кромкой.
ПО МОИМ ДА ПО СНАМ
По моим да по снам
Выпал первый снежок.
И на этот снежок
Вышел странный зверек.
Уже третью неделюшку
Все сеют и сеют в моих снах конопелюшку.
И сизый голубь
Все вился во снах моих, вился.
Через сине море перепархивал.
С моря на море перелетывал.
Серебряную башку
То туда повернет — то сюда.
Наконец — приземлился.
Не проснуться.
Даже на бок не повернуться.
Хочется пить.
Мама прорубь ко мне не подвинет.
Часты звездочки гасят
Или просто их черным закрасят...
А как голубь зевнет —
Все по-новой пойдет.
ПАУЧОК
На перекресток выпал туз бубей.
А Сарра дрессирует паучка.
И паучок ложится в позу трупа.
Она ему дает за это супа.
А плохо делает — дает ему щелчка.
На стенке мать ее — огромный скарабей.
И холодно на письменном столе.
На перекресток выполз он в крови,
К себе прижав оборванные лапы.
А Сарра бросила на стол, покрытый льдом,
Свою священную колоду карт.
Она росла без папы.
Квартира — неуютный странный арт.
И плавно надвигается Содом.
И страшен стол ее, покрытый льдом.
И страшно ожидание любви.
Паук глядит в нее глазами Византии.
Под маятником слизывает кровь.
И торжествует меж людьми любовь.
ХХХ
Инесса чувствует далекий океан.
Инесса чувствует всеобщий мирумир.
О, столько толстых, рыжих голубей в пенсне!
Те голуби шалеют по весне.
Сбивают с ног машины и людей,
Устроили на площади канкан...
Инесса чувствует далекий океан.
Там братаны: задрипанный рапан
И властелин пучин Левиафан...
Инессу обнимает голубок,
В пенсне которого блестит небесный мир.
Инесса жмурится под вечный мирумир,
А водоросли гладят ей лицо.
В мозгу лежит дремотный океан.
Но ставят сковородку на плиту.
На сковородку льют растительное масло.
Инессу чистят кухонным ножом.
Распарывают брюхо кухонным ножом.
Глаза ее слепы, прокушено запястье.
Далекий океан, должно быть, пожелал ей счастья.
Веселый голубок, по ней тоскуя,
На двери ей прибей пятиконечную звезду морскую.
ДЕВУШКИ ИЗ РОЗОВОЙ БУМАГИ
В двух мирах двойные птицы.
В третьем — дворник матерится.
А в четвертом — над пустыней купола.
И везде своя услада.
И везде свой труп в мешке.
И везде своя засада,
Как верблюд в твоем ушке.
Где-то жизнь течет без рифмы,
И коралловые рифы,
И агаты, и шуты
В окровавленном во рту
Молча славят пустоту.
Там отпиливают пальцы
И наука на посту.
Я устал от созерцанья.
Я померк от ожиданья.
Стали блеклыми мечтанья...
Я теперь не хызр, не сахар,
Не жемчужный бубенец...
Помоги мне стать счастливым,
Помоги мне стать красивым,
Просветленным, отстраненным,
Стать веселым, наконец.
Я в коротенькие лапы
Чудо-ножницы беру
И вырезаю много девушек из розовой бумаги.
Вот девушки для будущих времен.
ТАМАРА
В первый день последней менструации
Вышла Тамара к озеру Таволжан.
Там, за озером — граница. Казахстан.
А на озере — остров.
У острова — уточка.
Пришла Тамаре в голову неприличная шуточка.
Запад есть Запад. Восток есть Восток.
Им никогда не сойтися.
Будет Россией Россия, Казахстаном Казахстан,
Хоть застрелися.
Будет озером — озеро, островом — остров,
разговорами — разговоры.
А Тамара пойдет домой,
Где ждут ее для влагалищного спринцевания растворы.
Ночью она выплывет из раздолбленного тела.
Выплывет в дырочку между бровей и улетит.
Пропади он пропадом, муж
И его контактно-аллергический уретрит.
Полетит на Сингуль, Сундукуль, Тараскуль,
Дымкуль, Ернякуль, Ляцыкуль,
Циркуль, Кутликуль, Лулакуль.
САМУРАЙ И КОШКА
Однажды самурай из города Киото
Полюбил кошечку из провинции Киканомото.
Купил ей веер с длинной ручкой.
Купил ей также алое платье.
Купил белотканную одежду с вышитой штучкой.
И решил кошечку заключить в объятья.
А кошечка, как нежный померанцевый цветок,
Выпив для храбрости чашечку сакэ,
На стремительном катере за витком виток
Делает по японской широкой реке.
Она гибче, чем водоросль морей.
И над нею поет соловей.
И только мелкие брызги воды
Остаются у кошки стыдливо на коже.
Совсем уж скоро она с самураем
Встретится, надо думать, на майском ложе.
БЕСЕДА О ВОЗДУХЕ
Леонид:
Есть в воздухе много, Иван, там незримых червей.
Незримых пиявок и гадких колбасок без глаз.
Невидимых нам пауков, что глядят из-под черных бровей.
Поэтому и бурундук на рассвете кричит, задыхаясь.
Кургузый сибирский енот, зажмурившись, лапу сосет.
Иркутск, так он больше не встретит
нефритовым парня кольцом.
И я, Водолей полумертвый, сижу с нездоровым лицом.
И небко, что тушь.
Иван:
Ах, ртом я воздух набирал.
Ах, задом воздух выпускал.
Вино девяти брожений в мой город привез узбек.
Лежу я в безделье.
Смотрю я в межмирье.
И хочется телу на юг.
А воздух и в Африке воздух.
Стихи невесомы, воздушны.
В тетрадочках милых моих все лебеди, Леня, летят.
Приносят заваренный чай, и ивушку хочется щупать.
На ложе железном лежать.
На гуслях-тимпанах играть
И в странах далеких любить.
АЛЕКСАНДЕР И ГЛАФИРА
Александер, ласковый князь, полковник, молодец дородный,
Шел к Глафире три дня.
Хоронился в кустах от амеб, по небу плывущих.
Вслед ему хихикал человек-цветочек.
Глафира втыкала булавочку в руку,
Во садике зеленом смотрела сквозь янтарь.
Пришел Александер ко морюшку,
К прибрежному домику.
У дома рябинушка.
Выходит Глафира, поклоны бие.
«Не губь меня, Александер, честную девушку».
Александер же выдвинул свой стяг.
Выставил свое еловое копье.
Выставил свое ясеневое копье.
Выставил свою яблоневую палку.
А матушка плачет.
А в небе горыд и немецкие частушки там поют.
Из могилки выросли два дерева.
Одно-то из соли.
Другое — из сахара.
КАРАМЕЛЬ «СЛИВА»
О, «Слива» моя, дрессированная карамель.
Как тебе не хватает маленьких ножек.
Как тебе не хватает маленьких ручек.
Как тебе не хватает маленьких пальчиков,
Чтобы, когда ты во рту у меня,
Ты бы мне десны почесывала.
И напевала БИКОЗ
(Песню из репертуара Битлз).
Напевала вот так: Би-ко-о-оз...
Тоненько.
Комареночком.
И растворялась во рту у меня
Маленьким облачком.
СОБАКА И КОШКА
Собака кошку полюбил
Большой и трепетной
Любовь-ю.
Тарараю. Тарара. Тарара. Тарара. Па.
Цветы на память ей дарил
И нес мышей ей
К изголовь-ю.
Тарараю. Тарара. Тарара. Тарара. Па.
Он позабыл свою семью.
Забыл Кошландию родную.
Летел он из морских глубин
В надежде робкой поцелуя.
Эх!
Собака и кошка
Не пара немножко,
Твоя подсказала гитара.
Собака и кошка,
Они, если честно,
Не пара, не пара, не пара...
И тут она своими коротенькими ручками:
Опа! опа! опа!
ПРИЯТНОЕ ЧУВСТВО ПРИ РАССМАТРИВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
После бани я чай заварил,
С сыном Геной поговорил,
С исетским зефиром крепкого чаю попил.
Лег на кровать
И стал настенную географическую карту рассматривать.
Мне так пестренько в глазах и тепло на сердце.
Нравится то, что так много озер в этой славной озерии.
Они шевелятся, как инфузории.
На красные ниточки наползают
(Эти ниточки — автомобильные дороги).
Одеяльцем теплым укрыл я ноги.
Одно озеро без названия
Очертаньями прям Галилейское море.
И мнится на берегу маленькая Тивериада.
И листья незримые влажного сада.
Я сплю.
Стал иным я, чем был наяву.
И чувствую я и во сне, что живу.
Я даже почти понимаю, что сплю
И я по желанью могу просыпаться...
ТАНЦУЮ ОДИН
Танцую один, как геолог, открывший руду.
Танцую один, как русалочка ночью в пруду.
Танцую, как ворон долбает над северным бором.
И как телевизор, уставший казаться прибором.
Танцевал я степенно, но внутри разгорался канкан.
Я антеннами дергал, как квадратный большой таракан.
Я, как паста зубная, в чьем-то рту молодом танцевал.
Как кобыла младая, в своей комнате я гарцевал.
Танцевал, как Мухтар, закусивший шпиону кадык.
Танцевал, как геол, проглотивший волшебный рудык.
Танцевал, как квадрат, что над северным лесом завис.
Живая гармония. Радость. Спонтанность. И жись.
КОТА ЛЕОПОЛЬДА ЗАБИРАЮТ В АД
Лежал Леопольд на паласе.
Он лапами драл картон.
«Чу! Кто-то, кажется, на фиг, прокрался.
Кто-то, на фиг, влез ко мне в дом.
Это мыши, я знаю, мыши.
Прямые силуэтики, рукавчики реглан...»
Леопольд к ним навстречу вышел,
Как лейтенант Глан.
«Эх ты, котик, башка с усами.
Ты, наверное, нам не рад?»
Это черные бесы сами
Перед котом стояли в ряд.
«Вы скажите: к добру или к худу?» —
Прошептал помертвелый кот.
«Ну-ка, ребзя, в мешок Июду,
И под матушку-землю вперед!»
ХОРОШО
Хорошо есть вареную курицу
И смотреть по телевизору Кустурицу.
Хорошо смаковать салат из кочерыжек
И читать, что написал С. Жижек.
Хорошо вспоминать, кто таков Карел Аппель,
Плеснув коньяку себе несколько капель.
Пока жарится на сковородке камбала,
Хорошо разглядывать в альбоме живопись Джакомо Балла.
Хорошо, отведав копченой форели,
Рассказывать девушкам про Виктора Васарелли.
Хорошо продемонстрировать девушкам,
что ты вкусно готовишь рис
И знаешь, кто такой Хуан Грис.
Хорошо рассказать девушкам про Ренато Гуттузо
И смотреть на их голое пузо.
Хорошо объяснить им «чистую живопись» Делоне
И быть их пузом довольным вполне.
И хорошо, чтобы голые девушки, обступив тебя,
настойчиво спрашивали:
Андре Дерен —
Это все же традиция или модерн?
НАСТАВЛЕНИЕ ДЕДА СВОЕМУ ВНУКУ
Любовь — это жалкая ложь.
Ю.И. Шаповалов
Милок, милок,
Я много пожил.
Я по свету немало хаживал.
Жил в землянке, в пещере, в тайге.
И по самые помидоры засаживал
Зайцу, волку и Бабе-Яге.
Милок, милок.
Есть счастье на планете.
Оно всегда в таежном тупичке,
В каком-нибудь потешном пустячке
Иль, может быть, в кузнечика скачке
В забытом уголочке на планете.
Милок, милок,
На свете есть любовь.
Не называй ее ты жалкой ложью.
Ищи ее меж пропастью и рожью
В миг, что потеху отделил от дела,
Меж позвонков вновь найденного тела,
Шагая босиком по бездорожью.
Милок, милок,
На свете есть ура.
И в нем все по законам, как в природе.
Живи в миру, живи в своем народе,
Как хомячок живет на огороде.
ОДИНОКАЯ КРАСАВИЦА
Одинокая красавица
Стояла рядом с треножником.
А на столе стояла ваза с измельченным подорожником.
На стене резвились Зеленый Дракон и Белый Тигр,
Демонстрируя 12 благопристойных брачных игр.
Красавица со вздохом присела на тахту
И слушает по радио всякую туфту.
О, где же, где любимый ее паренек?
Есть много чего у нее, а паренька-то и ек!
ОДИНОКАЯ КРАСАВИЦА-2
Одинокая красавица
Сверкает, как машрафийский меч.
Очи ее оттенком повторяют агат.
Воркованье голубки повторяет ее речь.
Соцветья лугов повторяет ее модный плащ.
Поток жемчужинок повторяет ее обиженный плач.
Сам Битлимус бы многомудрый,
Наперекор годам,
Увидев ее, намахнул бы 150 за милых дам.
ХХХ
Есть в кошке отвратительное нечто,
Когда, набивши ротик колбасой,
Соски свои топорща, словно ежик,
У школьников она шкуляет на пузырь.
«Пацан, дай денег!»
Нету денег, нет.
«Пацан, попрыгай!»
Что за гадость, право!
Собака — то ли дело.
Я ВАС ЛЮБИЛ
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Люли-люли, вас ничем. Люли-люли, вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Люли-люли, другим. Люли-люли, другим.
Ой, рай, море, радуйся земля.
Люли-люли, другим.
Щедрык-ведрык.
Люли-люли, другим.
Ай-е, ай-яе.
Люли-люли, другим.
Да зезю-зезю-зезюлечка.
Люли-люли, другим.
Люли-люли, быть другим
Люли-люли, дай вам Бог.
Опа! Опа! Дай вам Бог.
Опа! Опа! Вас любил.
ХХХ
На ангельском, на озарянском
Наречьи в скважине замочной
Всем голосок звучит.
Так жаль, что сплю. Открыты небеса.
И прижимаются к рукам моим леса
И пахнущие хлебом деревеньки.
А жизнь вся есть один укромный угол.
Глаза прикрывший, неподвижный угол.
МОЛОДЫЕ СКВОЗНЯКИ
Как по горенке гуляют
Молодые сквозняки.
Молодые сквозняки
Лезут девушкам в трусы.
Люли-люли-люли-люли.
Лезут девушкам в трусы.
По полю летали —
Травку разгартали.
И во чистые поля
Улетели бегать, бля.
СМЕРТЬ ТАКСИСТА
Собака собаку целует.
Все морды в снегу и грязи.
И лапой таксисту махают:
«Земляк, к Дому Быта вези!»
Влезли собаки в такси.
Все запоганили лапами
И только хи-хи да хи-хи.
«Научим тебя, командир,
Шить и вязать.
У тебя, командир, курят?»
«Ну ладно, курите».
«У тебя, командир, поют?»
«Ну ладно, пойте»
«Да нет уж, ты пой».
«Ну ладно, спою».
И запел
Про опаленную войной молодость.
Усыпили таксиста гипнозом.
Выгребли бабки.
Выстрелили таксисту в висок.
Он песню прервал.
И, сложив бесстрашно ручки,
На землю упал.
ХХХ
Девки по снегу ходили
Босиком-босиком.
Резва зайчика убили
Молотком-молотком.
Резва зайчика варили
Кипятком-кипятком.
Резва зайчика запили
Спрайтом, колой и кваском.
Люли-люли.
Спрайтом, колой и кваском.
С ШАРОВОЮ МОЛНИЕЙ
С шаровою молнией
Девушки плясали.
Косы расплетали.
Сосны зажигали.
С шаровою молнией
Девушки гуляли.
Новую фуфаечку
Ей все примеряли.
С шаровою молнией
Девушки ходили.
Кисульку на скамеечке
Заживо спалили.
С шаровою молнией
Девушки штырили.
Около заваленки
Матушку зарыли.
Люли-люли-люли-люли.
Тую молнию зарыли.
Люли-люли-люли-люли.
Ко собачим ко херам.
ХХХ
Писал нубийский тот географ
И мертвый там один фотограф,
Натурфилософ-моралист
Писал, писал на белый лист.
Писал, писал калиф арабский.
Он буковки свои царапал.
А котик кресло все царапал
И гадил на пол и мурчал.
Тухлень на завтрак получал.
А котик умер и скучал.
И кто там пел, а кто молчал?
И кто там, бля, ногой качал?
Кому в забытой той России
Чай и бисквиты приносили?
С псевдосферических поверхностей
И недовспомненных окрестностей
Летит в бессонну необъятность
Незримая звезда.
Нас ожидает встреча
Нигде и никогда.
АЙ ЛАВ ТУРЦИЯ
Бисмиллях. Я, Еван в новом теле,
Все кофейни в чарыках тяжелых прошел наугад.
Я мечтал о ракы, собеседник дракона,
О ракы, что пугливый болгарин ракийкой потом назовет.
Я хотел им пропеть, что бездельник, кто с нами не пьет.
Но молчали афшар и молчали юрюки.
И какой-то ага молча кушал урюки.
У ашуга летели из уст соловьи.
Светлый край, благословенными будут все сазы твои.
Мусульманские улочки все я в железных чарыках прошел наугад.
Там эфенди в окошке глотает катык,
Гипнотически движется желтый кадык.
Там валиде разожгла тандыр и хлеб испекла.
И льет из кувшина бекмес (он — как из стекла).
Пока я ходил — ягненок стал жирным бараном,
Состарился, умер и смотрит каким-то страшным вараном
Из областей глубочайшего мрака...
Нет ракы — угостите тогда анашой.
Раньше маленький был я — теперь стал большой.
Иду — на ногах железные гири.
Дервиш смеется в лицо, а глазам представляется пери.
Какая-то ханум, с лица откинувши чаршаф, спросила:
«Вы, должно быть, долго путешествовали, долго ходили?»
С тех пор, когда верблюды вести разносили,
А блохи цирюльниками служили.
Все страны в чарыках проклятых своих обошел наугад.
В Энгерю был и на Мысмыле.
Был в Стамбуле хамал и уже стал как хызр.
На челе проступил свет пророка.
И увидел дворец, при дворце хасбахче
И ее, как из теста, куколку.
Я увидел ее и скажу: е-мое
Так старался Аллах, создавая ее.
И София Лорен пред ней — крыса.
Если с веткой ее мне сравнить, то с веткою кипариса.
Розы на щеках. Ротик, как бутон. Виноградина — пальчик. Она,
Скажу вам, прямо как четырнадцатидневная луна.
Персик рядами жемчужин она кусала без страха.
Этот ротик есть визуальный знак присутствия Аллаха.
Она — приносящая утешение сердцу безбрежная река.
Она — пастуший рожок, что текущую воду остановил.
Так стоял я без сил.
И сокол-сапсан моей мысли
К ней под узорное платье пролез.
Я стоял и готовил ласковый сахар словес...
И вдруг — хищник гор предо мной появился,
Словно сам ангел смерти в алой одежде и алокрылый явился.
И рот его был — гнездо лжи.
Он скверен был с головы до пят.
И вот говорит этот гад:
«За то, что ты так любишь баб,
Из твоего мяса я сделаю кебаб».
Я говорю, приподняв красиво бровь:
«А если это любовь?»
«Найди того, кому постыла жизнь,
Из вены у него возьми семь капель крови,
В медовый свой шербет накапай
И снимет, как рукой...»
Да, я теперь обрел покой.
Пусть на руки мне воду некому полить.
Огонь пусть к трубке вишневого дерева некому подносить.
Я в зеркало смотрю
И вижу лошадь
С человеческим лицом, но лошадиными щеками.
И я люблю ячменный хлеб с водою.
И не прошу ракы, тем боле анаши.
И дни мои светлы и хороши,
Как шаги через долину невзгод,
Пока не заговорило немое,
Пока не протрубила труба,
Пока попугай улыбается...
Грех мне печалиться из-за самки.
Грех спорить, что моя верблюдица лучше.
(Под утро твоя верблюдица стонала,
Ну а моя страусенком бежала).
Ночами хочу посмотреть,
Как ангелы стоят на каждой из звезд,
Как небо из полированной стали
Блестит нестерпимым светом.
Как смотрит на меня
Громадный ангел из снега и негасимого огня,
Как листья дерева Седрат подобны ушам слона.
Хочу это видеть
И в радостном сне повторять:
«АЙ ЛАВ ТУРЦИЯ.
АЙ ЛАВ ТУРЦИЯ.
АЙ ЛАВ ТУРЦИЯ».
КРАБ ТОСКУЕТ
Черноморский тоскует крабок.
Себе чешет он жесткий лобок.
Он тоскует по вольной медузе,
Что плывет к горизонту на пузе.
Он тоскует по вольной волне
Под которой приятно вполне.
Глянь-ка, клешни уже все в говне.
Шагане, ты моя, Шагане...
МАЯКОВСКИЙ
Три дня Маяковский ел пластинчатые грибы,
Глотал киноварь и женьшень с коноплей.
Пил собственную слюну.
В среду вышел из дому, огляделся по сторонам:
«Вполне хорошо и, главное, не банально!»
Шел по улице в желтой кофте, а в спину шипели:
«Шут гороховый! Фигляр цирковой!»
Ждал Ахматову в саду, задыхаясь от желанья.
Расставленные вокруг цветочные горшки
Воспринимались как метафоры коитуса.
Явилась. Лицо — серебряное блюдо.
Стан гибкий, что твоя ива.
Пальцы нежны, как веточки укропа.
Распахнуты складки халата — видна оголенная грудь.
Маяковский приподнял ей юбку
И стал любоваться крохотными ножками
в атласных туфельках.
Маяковский приоткрыл свой баклажан,
И Ахматова легонько коснулась его нежными пальчиками.
На нем тяжелое серебряное кольцо,
Что придает ему еще большую солидность:
Пенис длиною в 12 шведских спичек.
«Мы вместе пересечем Нефритовое небо
И будем собирать розовые плоды в саду бессмертия.
Ты узнаешь мои 8 сочленений, а я твои 9 дворцов».
Левой рукой гладит ее тело от шеи до половых органов:
Левой, левой, левой.
Кладет руку на врата жизни и открывает золотой вход.
Извлекает расшитый шелковый мешочек, развязывает его,
Раскладывает у края газона
Серебряный зажим, колпачок Вечного Желания,
Серное Кольцо Похоти, пирамидки «фимиама страсти»
И татарский любовный колокольчик.
Они устремились друг к другу
С неистовством бьющихся на ветру бумажных змеев.
В момент проникновения нефритового перста
в нефритовую пещеру
И случилось самое дао.
Взметнулись высоко чулки из шелка,
Вмиг над плечами Маяковского взошли два серпика Луны.
Упали золотые шпильки и изголовье
темной тучей волосы обволокли.
Колышится волнами нежная грудь.
Три пирамидки «фимиама страсти»
Он положил Ахматовой
Чуть выше пупка, между грудями
И среди глянцевитых волос шелкового веера.
Затем он поджег фимиам кончиком ароматной палочки.
Маяковский жалом напирает на драгоценную башню,
Пилит нефритовые фибры.
Инь и ян заключили союз
В чудесных глубинах тыквы-горлянки.
Из уст волшебной черепахи извергнулся вдруг поток.
Капли желанной росы устремились
К самому сердцу пиона.
Маяковский меланхолично застегнул ширинку.
Ушел, сказав: «Au revoir!»
ЖЕНИТЬБА ПУШКИНА
Женись, Есенин, на березе.
Женись-ка, Пушкин, на сосне.
Женись-ка, Пушкин, на сосне —
Она не пукает во сне.
Она не пукает, не дышит
И слово «бля» не говорит.
И вовсе ничего не слышит.
Зато горит.
Оделся Пушкин аккуратно,
Гостей на свадьбу он привел.
Сергеич обнимал развратно
Ее корявый плотный ствол.
Сергеич браги наготовил
Гостечков вусмерть упоить.
Сергеич «Дружбу» приготовил,
Невесту будет он пилить.
ХХХ
В цветах и ягодах, в прокисшем черносливе
Лежал впоследок проливного у дождя.
Господь зачтет, но, чур, смотреть нельзя,
Как по закраинке пошла гулять душа —
В зеленом сюртучке так дивно хороша.
И видит Марьюшку, а Марьюшка краснеет,
Сидит у пирога, глаза поднять не смеет,
Вздохнет так слабенько беззвучным голоском.
Эх, Шипчик вытворяет за леском.
Эх, Щипчик вытворяет. Господь соизволяет.
Лег Щипчик, как крючочек, в ковчежец-сундучочек.
Все тихо, безмятежно, забыто, слепо, нежно.
ПЕСНЯ ОРГАНИЗМА
Где твои 17 лет?
В попе у верблюда.
Где твои 17 бед?
В попе у верблюда.
Где твой черный пистолет?
В попе у верблюда.
Где тебя сегодня нет?
В попе у верблюда.
Переименована она давно.
Стало там по-новому —
Все говно.
И там, где бы ты ни был,
Где ты ни пройдешь,
В попу ты верблюжию придешь...
Еще бы!
ХХХ
Ты что ж, Розенбаум, с осенью сделал?
Заставлял старенькую плясать вальс-бостон.
Кормил ее только водой и хлебом,
Если встанет на цыпочки и будет вилять хвостом.
Подвергал ее всевозможным сексуальным надругательствам,
На цепочке водил вдоль холодной реки,
Заставлял называть себя «Ваше Сиятельство».
Ей остались лишь анальный секс и роликовые коньки.
ГОСПОДЬ В КОСТЕР ПОДБРАСЫВАЕТ ВЕТВИ
Господь в костер подбрасывает ветви.
И месть несут слепые поезда,
Как сперматозоиды в тумане.
А я, бессоницей томим, прошу:
«Зажги хоть огонек».
Но шесть шестидесятников придут.
Эх, будет тарарай-ра вам, друзья.
Как хорошо, друзья, быть молодым.
Отражусь в озерах синих,
В чем-то там и в улыбке.
И превращу ноябрь, бля, в апрель.
Матросы и пассажиры, бля, твои
Приходят на помощь.
Если я музыкант, то ты — скрипка.
Если я всадник, то ты — кобыла.
Если я космонавт, то ты — открытый космос.
Если я декабрист, то ты — Сенатская площадь.
Как хорошо быть молодым.
Друзья, нам есть, бля, что сказать.
К талому ручью,
Пальцы окунуть в клавиатуру звезд.
Физики-лирики...
Эх, грустную нежность песни
Ласкают сухие губы.
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИГМЕЙ
ХХХ
Было время и волны катились.
И смотрели дома в темноту.
И у мертвых красавиц светились
Непроросшие зерна во рту.
ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ
Осень, она такая вот грязная,
Что ей не место меж нами, высокодуховными существами.
К тому же она и гриппом заразная.
К тому же отравляет нас тяжелыми осенними веществами,
Разлитыми в бессодержательном осеннем воздухе.
К тому же и женщины теряют свою красоту,
Закутываясь в куртки, плащи и прочую хреноту.
А мужчины снимают солнцезащитные очки
И мордой становятся, как хомячки.
А собаки грязные и в репьях.
И улицы в удручающе-тупых воробьях.
И людишки — маленькие тормозные гномики,
А не системно-органическая часть
современной социальной экономики.
И на глазах уменьшаются половые признаки.
Ночью в доме кто-то вздыхает, скрипит, какие-то,
возможно, сраные призраки.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
Коль от инфекции осенней не загнется.
А смертным власть дана любить и узнавать,
И осень материть, и чаю наливать.
И горький пористый с миндалем шоколад
С российской удалью от всей души ломать.
ОЖИДАНИЕ ПЕРВОГО СНЕГА
Лишь ночью в вагонах
Шепнут: «Подготовьтесь для снега!»
И в травах сухих
Уж не встретить козявок холеных.
Уж невидаль ждет в далях грязных и далях холодных.
Пугливым зверьком пробираюсь по чернозему.
А где-то в поселке воскликнули вроде бы: «Снег!»
Я все ожидал — не начнется ли новая местность?
Витал в небесах, видел сверху дохлую мышь.
Под тучами в поле дрожит и зябнет телесность.
Дружок, не старайся, от снега не убежишь.
НА ЛЬДУ
Стою на льду, и подо мной
Пчела сияет белизной:
На дивном троне восковом,
Вся в освещении цветном.
Корона, словно Коланхоэ,
На треугольной голове.
О, вся в седой густой траве,
О, вся в густой седой щетине
Подводной той пчелы большая голова.
И в ротовом ее устройстве
Видна мне твердая халва.
И обреченно, как Актюбинск,
Глядят фасетные глаза.
Две пары мутно-белых крыльев...
И у пчелиного гнезда
Большая свита слуг видна.
По озеру расселись рыболовы.
По озеру расселись рыбачки.
Приземисты, сыты, круглоголовы.
На всех солнцезащитные очки.
А надо льдом стояла Божья Матерь
И плакала, сжимая кулачки.
ХХХ
О, чай, как девочка, не думает про завтра.
Кипит себе, кипит, краснеет и стоит.
И льется в блюдечко и снегу говорит,
Что к 9.00 сгребут его лопатой.
Протянет яблоко и спички огонек,
А глупый снег лежит, лежит без рук — без ног.
Лежит себе, молчит и делается плотным,
И даже не глядит на желтое окно.
И молвит сам себе: «Мне, снегу, все равно.
Я снег, а не предмет для разных вожделений.
Я есмь без логосов и без идей-волений.
Вуайер самого себя.
Бя-бя. Бя-бя. Бя-бя. Бя-бя».
ЧАЙ
Горячий чай да с сахарком
Там пьет небесная вся Русь.
Рыдает старенький главком,
И тлеет нерушим союсь.
Чай, как дракон, летит над миром
И плачут кошки по квартирам.
Чай закипает в стратосфере.
Клокочет сердце в сером звере.
Пусть смотрит в пепел человече,
Во сне встречает междуречье,
Пройдя межбожье и межножье,
Он исчезает в бездорожье...
Горячий чай да с сахарком.
Мокрахас садйач йичярог. Ом.
ХХХ
Сырая звездочка, сырая,
На холмы вечером слетая,
Путеведущим тихим оком,
Все ждет меня в краю далеком.
Хоть спи, хоть странствуй по планетам,
Хоть изумляйся белым светом,
Она, мигая тихим оком,
Все ждет меня в краю далеком.
Умри, родись, живи для славы,
Ищи лишь легкие забавы —
Она все ждет в краю далеком
Путеведущим тихим оком.
ВКУС НЕБЫТИЯ
О, вкус небытия, страшусь тебя, как прежде,
Когда в молчаньи дню пустому предаюсь,
И в точке Z навечно остаюсь,
Постигший будто бы и будто бы смиренный.
А сам кривлю губу и щурюсь, дерзновенный.
Пропел соловушко над гладью молчаливой.
До боли глаз смотрю в заветну глубину.
И непроглядностью любуюсь я, пугливый,
И страшно — к Господу душою не прильну.
Я трех людей встречаю непробудно.
Они глядят таинственно и чудно.
И кажется, их взор и их молчанье
Приблизят смертное блаженство просыпанья.
Близка граница. Чувствую границу.
Я ставлю иероглиф на страницу.
Наполовину там и здесь наполовину.
Мечом или струной отрежьте пуповину.
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИГМЕЙ
Онтологический пигмей
Приехал в город Мелитополь
К пигмейской бабушке своей
И вечером залез на тополь.
Он стал поближе к облакам.
Вокруг него летают птицы.
Но неудобно так ногам
И можно запросто свалиться.
А можно взять — и не родиться.
А можно взять — и улететь.
А можно просто вниз глядеть
И сам с собою веселиться.
И сам себе стихи дарить.
И восхищаться сам собою.
И сам с собою говорить,
Как говорит звезда с звездою.
ДУША
За окном скворец хохочет.
В комнате царевич дрочит.
Дверь закрыта на крючок.
На залупе — колпачок.
Колпачок из серебра
В форме головы бобра.
Зяблик с сойкой за окном
Потащились в гастроном.
За окном самец овсянки
Жигулевского три банки
Потащил в свой птичий дом,
Чтобы их потом с птенцом
Засадить за милу душу...
И летит душа наружу.
Чтоб носиться по полям,
И по цифрам, по нулям.
И по свастикам, по крестикам.
И по жердочкам, по лесенкам.
Где прошедшие года
В тьму уходят без следа.
Где совсем невнятны смыслы
И континуальны мысли.
Где дискретности, что горки.
И над ними светят зорьки.
В небе облачко алеет.
Да, Россия — уцелеет.
ДЕВОЧКА
Маленькая гористая девочка
С мордой широкой, тяжелой,
Как северных земель замершая белочка,
Сосет, закрыв глаза, узкий желудь,
Прикрывая ладонью свою глубокую реку
И свой заросший лесом горный склон.
Со скрипом подъезжали картонные камыши
И сидящие в камышах с удочками рыболовы.
БАЛЛАДА О SKl-ПИДАРЕ
У меня был друг.
Его звали Фомак.
Он забыл все слова,
Кроме слова «Чумак».
С утра было лето,
А теперь — зимак.
Наверное, мой ревер
Сошел с умак.
Я устал пить ча.
Я устал ча-ча-ча.
И, ухая, и, хохоча,
Я обращался: Скипидарче,
Приди, приди, любезный старче.
Ты — ускоритель всех людей.
Ты — ускоритель лошадей.
Ты — ускоритель верблюдов...
Когда малец средь пацанов,
По пионер — я — лагерям скитался,
То часто, лежа на казенной койке,
Я слушал некий там забавен анекдот.
Вот... значит, ехал по пустыне
На верблюде мужичок...
Нет-нет, на ишаке.
И вот ишак устал.
Ни шагу не идет.
И тут туркмен или узбек,
А может, курд
Ему и говорит:
«Я помогу тебе, приятель!»
И скипидару — плесь! —
Он ишаку под хвост.
Ишак заржал — и как рванет!
Мужик и говорит:
«Как же его я, бля,
В натуре, догоню?»
Калмык и говорит:
«Это есть беда. Не спорю.
Но готов помочь я горю».
И мужику на задницу
Он скипидарцу — плесь.
Мужик помчался. Ишака догнал.
И говорит: «Ништяк!»
И вот хочу я Скипидар узреть.
Я концентрируюсь на Солнце
И познаю миры.
А Скипидара нет.
Я концентрируюсь на Луне
И обретаю знания созвездий.
А Скипидара нет.
Я концентрируюсь на собственном пупке
И познаю тем свой телесный организм.
Но где же Скипидар?
И вот — является.
Но он не Скипидар.
Ski-пидар.
РЕЗОНАНСНЫЕ ЦЕПОЧКИ
Приближается лень.
Приближается Ленин.
И лебедушку гладит по утру Коленин.
По ветвям все медузный, спермозный Малинин.
И поет бороденка — беззубый Калинин.
Кофе пьет Каганович — бывший Есенин.
Режет хлеб и лениво сопит Воскресенин.
И лебедушку целит рассветный Границын.
Приближается соль и не спит Солженицын.
Приближается ля, приближается си.
Ленин в город выходит и садится в такси.
А Коленин зовет Рукина, Ногина,
Носина, Глазина, Попина, Пупина.
И лебедушке режут сонную шею.
Каганович билет покупает в Рассею.
Воскресенин ножом режет белые пальцы.
А Малинина колят штыками китайцы...
Вот разбилось такси и подвыпил Калинин,
И подвыпил Коленин, и подвыпил Есенин.
Кто поет — кто теребит бородушку.
И хоронят, хоронят лебедушку.
НЕПРИСТОЙНАЯ РУГАНЬ
Ругались грязно две соседские девчонки,
Как прямо две соседских собачонки.
Говорили слова на «Пе»,
Что как коровьи бешенцы в толпе.
Говорили слово на «Эс»,
Не слово, а динамический процесс.
Выхватывали слова сомнительного статуса
Из какого-то лоскутного дискурса.
Лишали слова нормальности и локальности
И им придавали оттенок фекальности.
Под ноги тихим интеллектуалам
Они кидались словесным калом.
Пребывая в аккустическом пространстве,
Они упорствовали в своем засранстве.
Помещали свои жуткие тексты
В не менее жуткие контексты.
И в глазах их, как карлик на трапеции,
Корячились какие-то бессознательные интенции.
БАБУШКА-МАТЕРШИННИЦА
Что ж ты, бабушка, думал я, ты — почетная шинница,
А ты, бабушка, интенсивная матершинница!
Я думал ты, как минимум, духовно богата,
А ты погружаешь нас в мрачный мир своего
старушачьего мата.
Ну, конечно, за твои словесные проделки
социум не лишит тебя имени «Люда»
И не станет линчевать тебя прилюдно,
И не сунет, как Крошечку-Хаврошечку, в зад верблюда,
Но все пределы приличий нарушаешь ты, бабушка, люто.
МАТРОС
Потухли на усах снежинки,
И вмиг он завладел ментальным существом.
Абзацев необузданных пружинки
Со звоном лопались и падали дождем,
Рвалась бумага, гасли папироски,
И голос безнадежно отставал...
Чу! То братишка в маленькой матроске
Пред ним смущенным карликом стоял.
Стоял, как молодое изваянье,
Явился он, как нежное сиянье
На заднике плохого бытия,
Как память детства в жопе соловья.
Он пролил много слез.
Он был матросом.
Он, в вечность обреченный каменеть,
Шептал кому-то: «Бля, не сметь... не сметь!»
Но люди тупо клали на матроса.
И смели все. И к горизонту шли.
А через день бухого в задницу матроса
В овраге люди без штанов нашли.
ВЫРОЖДЕНЕЦ
Я, маленький сибирский вырожденец,
Сижу меланхолично у окна.
Открылась, гадство, бездна, звезд полна
Передо мной, как будто бы я немец.
Я, маленький сибирский вырожденец,
Я неказист, но сердцем так хорош,
Словно в утробе матери младенец...
Я, маленький сибирский вырожденец,
Меня я не советую дразнить,
А то могу за палец тяпнуть,
И подбежать к столу и водки хапнуть,
И ухватить кусочек колбасы,
Запрятать его в серые трусы
И бойко прятаться с ухмылкой под кровать,
Креститься мелко там и колбасу жевать.
И пальчиком в пыли чертить медузу,
У коей ноги примыкают прямо к пузу.
О, родина, как я хочу тебя.
Хочу тебя не то, чтобы развратно.
А целовать тебя по-русски троекратно,
А можно пятикратно, семикратно,
и даже двадцатисеми — понятно...
А можно и стосорокапяти...
А можно и пятьсотпятидесяти.
А можно целовать вообще без счета,
Не спать, не есть и тело потерять,
И в небе, полном звезд, без устали нырять,
С небес червём безглазым улыбаться.
В кровати засыпать — в утробе просыпаться.
НЕЖЕЛАННЫЕ ДЕТИ
Фаллос не думает, не думает мужчина,
Не думает огромный кутачина,
Когда его в руках сжимают,
Как дети в мир хотят, когда их не желают.
Густые струи семени возвеселятся.
Зрачки разъедутся, и губы шевелятся.
Внизу живота огонь уж не пылает.
И никто не знает, как Господь этих детей желает.
Весь день срам мой предо мною есть.
Обниму собаку, поцелую ее в шерсть.
Несть мира во костех моих. Да-с.
Я — лишь капля спермы, падающая в унитаз.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Что это значит,
Что серый пельмень
Выпрыгнул вдруг из широкой кастрюли?
И развалился, как носик у хрюли...
Люли, вы, люли.
Это спроста.
Что ни возьми — не имеет значенья.
Здесь незначительные места.
Заяц по полю бешено скачет —
И ничего это вовсе не значит.
В домике девица воет и плачет —
И ничего это вовсе не значит.
В поезде едет задумчивый хачик —
И ничего это вовсе не значит...
Так что, пельмень из широкой кастрюли,
Прыгай-не прыгай —
Везде люли-люли.
ХХХ
Уперев взор в землю,
Уперев ноги в землю,
Уперев мысли в землю,
Стою
В этом месте географическом.
А на меня по траекториям гороскопическим
Сыплется разная
Космическая зараза:
Словно бы мертвый Гагарин без глаза,
Рогатые учителя из энергетических пустот,
Аштар Шеран в атмосфере растет,
Космический агент сигает с парашютом
В своем кафтанчике, изумрудами расшитом,
И словно бы мухами,
Падшими духами воздух пестрит,
Эскадрилья стальная дисков летит...
А я стою, уперев взор в землю.
И от страха уже ничему не внемлю...
ХХХ
Тихо-тихонечко ляжет в постель существо.
Слышно, как дождь непрерывно шумит в коноплянниках.
Чаем грузинским назвали они вещество,
Которое вечером выпил и съел пару пряников.
Жизнью назвали они проплыванье во тьме облаков,
Словно плывут облака над владеньями смерти.
И мальчик во сне лебедями кличет хорьков
И, глазки закрыв, в этой сонной плывет круговерти.
Что тело лепечет — уже ни понять-ни сказать.
Что душу ведет — называют они умиленье.
А дождик все падает, падает, падает прямо в глаза.
И набухает земля, как под одеялом колени.
ХХХ
Скошенность, придавленность и сжатость.
Робость неизысканных предметов.
Скажем, песьих ковриков, печально-пыльных.
Скажем, стуликов смирных.
Скажем, всех этих совестливых фотокартиночек
И убогих пластмассовых, кому на хер нужных, корзиночек.
А может, придет затюканная такая девочка.
И в волосах у нее грязненькая такая ленточка.
«Дяденька, дайте корзиночку, одуванчиков пособирать.
А может, есть котик у вас — с ним заодно погулять?»
Котика нету.
Дал бы конфету, но нету.
А корзиночку, что же — бери.
Только смотри — верни.
ХХХ
Во мне совсем нет места для Вечности.
Только этот живот, да эти конечности.
Только трюки любви в моем правом предсердии.
Нет в крови кислорода и нет милосердия.
Только печальные эти бактерии,
Сидящие вечером в сонной артерии.
Лишь дракон и феникс на митральном клапане,
Что держат белую розу своими лапами.
Только гладить холмы нервными пальчиками
И улыбаться яблочком безглазым
между девочками и мальчиками.
Лишь запереться в доме с безвредными скотами
И целовать друг друга своими ртами.
И уехать, как попугай к сороке, когда скажут «Поехали!»,
Оставляя за собой бытие со значительными прорехами.
ХХХ
Лишь чаи, лишь конфеты, лишь рафинады.
Лишь скатерть в цветочек с пригорками да ложбинками.
Лишь скромная заюшка юбку надела.
Лишь селедочка ласковая с жемчугами-росинками.
Лишь под столом крепко лапку пожмешь,
Пока тятя не видит.
Лишь водка лежит на путях-перепутьях
И шепчет: «Забудь!»
Забудь и очухайся по темноте.
И звездочка будет висеть в высоте.
Туда побреди, где кусты и ограда.
А как тебя звать — никому и не надо.
ХХХ
В земле, обнявшись, как слепые черви,
Лежали две хорошеньких души.
И улыбались, словно малыши.
Как уточка и селезень сияли.
Как звездочки в сырой земле стояли.
Мечтали веткою раздвоенной расти,
Над тихой речкою стрекозочек пасти,
Надеть на тело красную рубаху
И горевать, щекой прижавшись к праху.
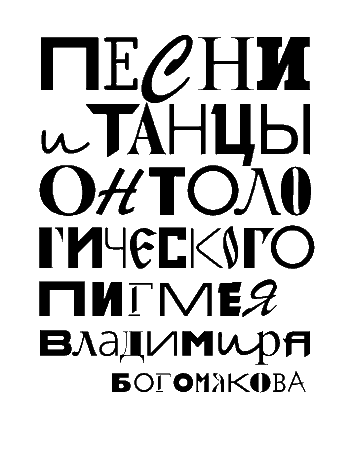
Купить книгу в Москве:
издательство «Парад», ул. «Правды», 24, т. 2574088